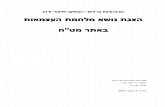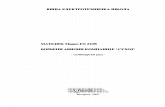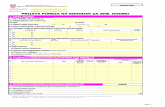_Gandelsman15
-
Upload
urchik2009 -
Category
Documents
-
view
49 -
download
0
Transcript of _Gandelsman15



Стихи поражают интенсивностью душевной энергии, некоторой даже лапидарно-стью душевного движения... Они ошеломляют буквальностью чувств, голой своей метафизичностью, отсутствием слезы (гитары)... [В них есть] любовь любви, любовь к любви — самая большая новация в русском стихе, в этом веке запечатленная.
Иосиф Бродский
Стихи Владимира Гандельсмана отмечены той свободой речи, которая оплачивается отчаянием, но способствует выживанию. Эта свобода стирает, но одновременно обновляет разницу между одой и элегией. Поэт блистательно владеет техникой стиха — тем, что сам называет «пробежками аллитераций» и «вольностью грамма-тики»; формальная игра у него приобретает глубоко содержательные измерения, сло-вотворчество оказывается не банально футуристским, а скорее метафизическим. Гандельсман — один из немногих, кто вправе ощущать себя дома в поэзии, причем не только русской и не только современной (великолепны его вариации на темы Катулла и Баратынского). Последнее и, может быть, самое важное, что хотелось бы ска-зать: он обладает редкостным чувством не то чтобы единства, а неслиянности и нераздельности с миром, природой, другим человеком.
Томас Венцлова
Это — сверхплотная и сверхстрастная поэзия. В теле гандельсмановского стиха аллитерационные строки чистейшего звучания и смысла буквально вспыхивают, как вспыхивают на случайном луче прожилки кварца, стиснутые горной породой. Страсть в его стихах угрюма, строга, сдержанна. Ничего ненужного. Смысл порож-дается как раз этой чудовищной плотностью. Что же до формальной стороны вопроса, то перед нами удивительный (и счастливый) случай новаторства, выросше-го из зерна русской поэтической традиции.
Кирилл Кобрин
Уникальный способ проникновения в сердцевину мира, присущий именно Гандельсману, — это изобилие, даже теснота точных реалий, и вдруг чуть ли не в соседней строфе воспарение из-под этой груды в мир почти бестелесной абстрак-ции — телом остается только слово <...>Его стихи часто, даже почти неизменно, вызывают у меня стандартную реакцию — напряженное восхищение.
Алексей Цветков
Невозможно в здравом уме вынести во всей полноте убеждение: «Я смертен». И тем не менее поэт каждым стихом решает эту задачу. В. Г. доводит ощущение смертно-сти всякого мгновения и события, преломленного в звенящей чистоте детского взгля-да, до предела, за которым, как ни странно, обнаруживается бессмертие... В этих стихах смысл вырастает из звука и, слившись с ним, в него уходит, как дождь в ждущую землю. Всё его техническое совершенство никогда не самоцель, всё работа-ет на основную тему, на раскрытие жалкой и прекрасной бесполезности существо-вания... Только такого читателя, для которого чтение — обряд, равносильный кре-щению, из которого он может выйти обновленный сотворчеством, — только такого читателя ждет эта книга.
Валерий Черешня




ода одуванчикувладимир гандельсман
Москва2010

Академический проект «Русского Гулливера»
Руководитель проекта Вадим Месяц
В настоящее издание включены произведения петербургского поэта Владимира Гандельсмана, написанные и частично опубликованные в период с 1975 по 2007 год: разрозненные стихи, целиком книга «Школьный вальс» (стихи), а также литератур-ный дневник «Запасные книжки» и эссе о литературе.
ISBN 978-5-91627-037-2
© Владимир Гандельсман, 2010© Центр современной литературы, 2010© Русский Гулливер, 2010
Владимир Гандельсман. Г14 Ода одуванчику / Академический проект «Русского Гулливера».— М. : Рус-
ский Гулливер/Центр современной литературы, 2010. — 340 с.
УДК 821.161.ББК 84(2Рос=Рус)6 Г14

Посвящается моей жене Алле

БИО

11БИО
Автобиография, если она кем-то востребована, предполагает значи-тельность: я родился и кем-то стал... — но если её начать единственно точными словами: «Я родился за несколько десятков лет до своей смер-ти...», — то понятно, почему нет никакой возможности кем-то быть. Не остаётся времени: ни на хотение нарядиться в инженера, например, или в поэта, ни на пребывание в наряженном виде: кто-то.
Настоящая биография — это история не пребываний, но отсутствий, главное из которых: безусловно истинное отсутствие (БИО), — впереди. БИО обсуждению не поддаётся, но из прикосновений к нему и сопут-ствующих состояний складывается биография.
Эти состояния — вспышки, которые освещают всё, что рядом: осталь-ную жизнь. Они — обрывы сердца, огромные обвалы неумения, безыcкусного и безысходного сиюминутного горя, но в будущем воспо-минании, возможно, счастливого горя. «Время — это движение горя».
Мы находимся в обратном натяжении к небытию. И чем преданней, тем чище. Чистота пребывания — это результат вычитания центростре-мительного вектора из центробежного, вектора к небытию из вектора к жизни, и чем меньше разность, тем точнее результат. В обычном случае результатом взаимодействия двух сил — вовнутрь и вовне — является криволинейное движение.
12 ноября 1948 года — 1964 год. Ленинград. Родители: Аркадий Мануилович Гандельсман и Рива Давыдовна Гайцхоки. Старшие сёстры: Инна и Роза. Детский сад — школа.
Болезнь в младенчестве — первое пробуждение этого обратного натя-жения. Тебя не отпускают в жизнь. Но тем самым и побуждают к ней. Ты лежишь и, глядя в потолок, видишь точку пустоты. Вот головокружи-тельный опыт. Может ли такое быть: точка пустоты? Может, и это очень большая тоска. Похоже на вертящуюся пластинку: серое вращение пло-скости с точкой в центре. Беспричинный страх, как всё беспричинное, свидетельство подлинное. Без примеси психологии и всего разумного. И эту пластинку заест: одна и та же музыкальная фраза будет возвра-щаться всю жизнь.
Другое состояние — любовь. Ты как средоточие любви. Покоящийся словно бы в колыбели родительского взгляда. Забавно говоря: в люльках глаз. И любовь к родителям. Вернее сказать, любовь, «предметом» кото-рой стали родители. Как первые, попавшиеся на пути от БИО-1 (до-бытие) к БИО-2 (после-бытие)... Все эти долгие объяснения оттого,

12Владимир Гандельсман
что речь скорее всего идёт не о состоянии людей, а о свойстве простран-ства жизни, ими затепленного и хранимого.
Мать поёт колыбельную «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни...», или сидит за швейной машинкой «Зингер» и слюнявит нитку, или входит отец со сбритой полосой на обмыленной щеке — очень нео-быкновенно. Всё, что предъявляется, предъявляется когда-то впервые, и родители создают любовную повторяемость событий, тем самым неволь-но оберегая нас от непрерывно и непривычно яркой новости. Но яркость прорывается, поэтому ребёнок так часто плачет. Режет глаза. Из этого непреднамеренного горя вырастает неотступное ожидание родителей, их прихода домой с работы. И страх, что не придут. Что умрут. Страх и жалость.
Как возникает понимание БИО? Когда? Из этих ожиданий? БИО как невозвращение никогда домой?
В первом классе умирает мальчик: он сидел на первой парте, фамилия Симаков, — потом ты слышишь, что умер от желтухи. Это значит, что он никогда в класс не войдёт и на свое место не сядет, а ты не увидишь его стриженый затылок и уши поперечным торчком. Просто исчезновение. Фокус переселения Симакова в твою память, которая через пятьдесят лет его легко воскрешает, потому что никогда не забывала.
Другой, тоже главный вопрос: когда ребёнок видит себя в зеркале, впервые понимая, что это он? Взгляд на себя со стороны и возникнове-ние образа себя. С этой точки могло бы начинаться изгнание из детского рая, но не помню и не встречал никого, кто бы помнил.
БИО выстукивает свой ритм, всё более сложный. От безразличного тебе исчезновения (его навсегда-запечатлённость происходит от нового, не известного до сего момента сбоя заведённого порядка: не войдёт и на своё место не сядет...) — к очень не безразличному, потому что в пятом классе умрёт девочка, в которую ты влюблён. А двенадцатилетний чело-век уже знает, что в таких случаях следует переживать, даже страдать, хотя для страдания у него ещё нет взрослого эгоизма. Он будет пытаться присвоить это БИО себе, чтобы из подражания старшим стать значи-тельней. Вектор жизни побеждает, устремляясь на ложные пути.
И дальше, и дальше, всё с-ложнее, но с неизменной победой вектора жизни. Пьер «не видит» смерти Каратаева... — это спасительная сила «перемещения внимания» и уклонение в сторону выживания. (Правда, по воле Толстого, в случае Пьера — это совсем не ложный путь, наоборот: обретение Бога, Который везде... Думаю, что у Толстого иногда получа-лось не то, что он хотел...)

13БИО
Расширение географии обитания забрасывает ребёнка в «чужое». На мгновение, на два, на всё дольше и дальше от дома. Это вроде захода в море: ополаскиваясь, постепенно привыкая к воде, опасливо окуна-ясь... — прежде чем осваиваешься и плывёшь. Первая попытка проваль-на: слишком изнеженный и заласканный ребёнок сбегает домой из детского сада в первый же день, во время прогулки, — благо детский сад в соседней парадной. Но послеобеденный «мёртвый час» на казённой постели, запах кухни и линолеума навсегда отбивают охоту (которой, впрочем, и не было) к подобным приключениям. Раннее утро следую-щего дня отстаивает в слезах своё право на неприкосновенность и сон.
Школа — решающий «заброс», из которого не выбраться. Учительница пишет жалобу-записку (о плохом поведении ребёнка) и просит пере-дать родителям. Семилетний сын не знает, что должен вернуть этот документ с подписью, он ещё не умеет читать «по-письменному», и рвёт бумажку на мелкие клочки за гаражами. Назавтра он поднят за партой и уличён во лжи: где записка? Это абсолютно космическое событие: ты сгораешь дотла, по ходу дела прикасаясь крылом к БИО.
И следом — множество подобных событий, благодаря униженной изворотливости — всё менее космических, всё более приземлённых.
На другой чаше весов — дом, а значит, любовь и совершенство. Все праздники, все каникулы, все выходные.
1964–1975. Ленинград. Друзья: Лев Айзенштат (лит. псевдоним Лев Дановский) и Валерий Черешня. Сын Артём (1971). Школа — электро-технический вуз — конструкторское бюро.
Исключительность существования сдаётся на милость посредствен-ности.
Социальный инстинкт самосохранения. Повиновение, преодолева-ющее отвращение к учёбе-работе из жалости к родителям, из трусости быть не как все и от общей незрелости существа. Энергия, которой нечего сказать, и тщеславие, которое нечем утолить. По выражению Толстого: «путаница требований жизни».
Если бы ноль мог ощутить свою пустоту и ужаснуться, то я бы назвал повторяющееся состояние этого времени сквозным ужасом нуля (всё, что умеет этот ужас, — поменять в слове «ноль» «о» на «у»). Что-то выдувает душу внутрь себя и — на холостом ходу — вон из жизни.
На чердаке завода, где проходит производственная практика школь-ников, мастер рассказывает о допусках и посадках. Тёмное зимнее ленинградское утро. И в этом сонном, пахнущем металлом цианистом

14Владимир Гандельсман
царстве звучат, например, слова: «Завод выполняет план...» Что это зна-чит?
Человек может вынести всё, кроме осознания бессмысленности своей жизни. В худшем и наиболее частом случае ему необходим успех, то есть — ощущение своего превосходства над другими: нравственного или материального, не важно. Как подтверждение осмысленности. В луч-шем случае ему необходимо переживание внутреннего роста, он должен время от времени восклицать: «Я всё понял!» или «Что-то мне приот-крылось!» — без претензий на внешнее проявление своего совершен-ства, но зато, быть может, с ещё большей гордыней.
И первый и второй — случаи «игровые», не настоящие. Оба имеют в виду победоносную содержательность, которая, находясь во встречном движении к бессмыслице, противопоставляет себя ей, в то время как тонущий человек, спасаясь и обретая под ногами дно, движется именно ко дну. Вообще осознание бессмысленности должно стать настолько глубоким, чтобы перестать быть «осознанием». Если бы жизнь была тем, что человек о ней думает, она была бы невозможна. Жизнь живётся, а с окончательно разумной точки зрения — незачем ей житься. Стоит заод-но добавить, что и поэзия — опровержение тщеты, потому что идёт про-тив предвечных законов природы: против энтропии. Потому жизнь (и поэзия, в частности) — акт веры.
Один художник после многих лет работы сказал: «Наконец-то я разу-чился рисовать». Другой написал о том, как он рисует дерево: не только с натуры и на холсте, но и в воображении. Дерево продолжает в нем свою работу всегда. Первый в одном предложении поведал о своём рож-дении: он лишился «образа себя», чтобы стать собой. Второй сказал о том, что возобновление состояния «быть собой» никогда не прекраща-ется. Это не игра: написал — забыл...
И дело не в стихах-живописи, можно ничего «рукотворного» не соз-давать, — дело в творчестве жизни, в «собирании себя», — не для обре-тения тяжёлых и неподвижных строительных смыслов, но для спасения внутреннего человека — «...и тогда такой человек восхищен и находится без сознания, ибо его цель — безумный и всё же имеющий смысл или образ, или, другими словами, — нечто разумное без образа» (Экхарт). Короче говоря: «Как будто я повис на собственных ресницах...»
Попытки понимания этих вещей совпали с уходом из конструктор-ского бюро в угольную котельную на наб. Мартынова, 36.
«Посвящение», приведённое ниже и написанное в 1975 году, надо понимать как инициацию: посвящение во что-то (а не кому-то). В нём вторично обретается (или заново рождается) то, чему случилось быть

15БИО
главными точками биографии. Оно длится по сей день, и это моя глава в книге, которая называется «В поисках утраченного времени».
1975 — to the present. Ленинград, с 90-х — Нью-Йорк и Санкт-Петербург. Жена Алла, дочь Мария (1978). Кочегарка, позже — среди прочего — пре-подавание русского языка. Смерти: отец (1991), мать (1998), Лев Дановский (2004).
Посвящение
Сон о пластинке, пастила, душа плаксива, осипла, полночь у стола её ско-сила.Сон о пластинке по челу. Болезнь желанна. На чердаки свои лечу, в свои чуланы.Там абажур, истлевший в прах, и лампа-филин, и чахнет детский хлам в чехлах, и я всесилен.
Часы, туманность Андромеды, слова, как мозг, воспалены, компрессы снега, нега, сны, ангина, привкус мёда.
Рука папы просунута под одеяло — мгновенная прохлада, тут же обнятая жаром.Она давняя, знаю её очень давно.Вертишься около, вокруг руки, пятка достигает холодноватой воли.Рука, как прилипший кленовый лист, распластана между ключицами.Устал, щурюсь на малиновое, теперь без движения, только играю с малино-вым, щурясь.Тело расслаблено, и я успокаиваюсь, и снегом засыпаемый тихо засыпаю паинька паинька баюшки-баю
Но уже с настоящим снегом.Рука мамы не такая тёплая, потому что на улице.Она бела, пахнет глицерином, молода.Знаю, что меня ждёт. Урок музыки и — после.И вот ступаешь по снегу, держась за руку.Ступая, наслаждаешься податливостью его, под ногой он не рассыпается, а упруго уступает. Коротко мурлычет. Он обязательно идёт, снег, и — вечером. Всё это происходит в пятницу, и не идёт, а с неба пятится.Снежинки — воздушные гимнасты, захлёстнуты ритмом улицы и, свиваясь, взмывают вверх.

16Владимир Гандельсман
За одной из них слежу и загадываю, что успею доследить её падение, успею, не замедляя шага, и если успею, то что-то случится, а что — не приду-мать.Она резко оставляет меня слева, оглядываюсь и так иду, хватаясь за руку всё сильнее. И пока фон стены тёмен, всё со мной и со мной, и вдруг тонет в белом рукоплескании витрины.Теперь вдоль железной ограды, за которой сад. Он в редком огне. Ограда, ограда, пытаюсь свободной рукой вести по каждому пруту, но рука отстаёт, мёрзнет. В карман.И тут — стена, сплошная стена дома, ни окна, и её расщепляет, как тре-щина, дерево.Скоро уже, скоро.Волнуясь, ты передаёшь руке, которую сжал, всю тревогу.Уже пахнет кислыми кошками и серые под ногами пятна. Серые с белым.Теперь два шага, три — ровных, и в затылок сбегаются мурашки с предпле-чий и со спины.Тёмные, красные, полированные, красные, тёмные пятна.Под подбородком щекотный шнурок.Невыводимый запах нафталина.Белый слон, белый слон, он напрасен, белый слон.Белый слон расплывается, и мёртвая танцовщица поплыла вместе с пол-кой.И ты подступаешь к чёрному роялю, и не выплакаться, и не успокоиться, до самой своей улицы, до запаха бубликов с маком, только выпеченных, на снегу запаха
Весной — объятный воздух. Вдох и взмах.Весной, в тщательном матросском костюмчике, отмытый, в белых голь-фах.Весной, в мае, в ожидании лакомой прогулки.Весной дышишь так, что жизнь нескончаема, — столь светло и в таком начале она.Весной, в саду, тёплом от запаха верб, в трепетном саду.В тебе, как в стеклянном колодце, колеблется синева неба, и грудь дрожит, как мембрана.И вот ты выступаешь под окнами, за которыми начинается воскресная кухонная возня.По кромке тротуара. Независимо. Чтоб никто не догадался. Искоса.И совсем уж искоса — вниз: не наступая на стыки поребрика.

17БИО
Из глубины гостиной пыль была как золото распила, плыло пространство, тихо было, мультипликационно пил ленивый кот-домохозяин, и, обалдев, под потолком зудела муха, и в такоммлении были стрекозиные стрелки ходиков — крылья мельницы, разморен-ные зноем.Запах щей. Щи в обмороке.
Был день похож на решето, в муке и фартуке прислуги, ни то, ни это, ни про что, на тонком уровне разлуки.Дрожал на кухне блёклый куб, дышали жабры, коридора темнел в дверях тяжёлый круп, перебирала бусы ссора.Не зная, чем себя занять, дыханье высилось и никло, и сквозь рассеянность в глаза текли какие-нибудь иглы.Варилось в собственном соку весь день неясное волненье, как будто тень без утоленья тянуло время по песку.
Послешкольные в чернильных пятнах руки.
Летний и скучный день похож на жаркую зевоту собаки. Полдень.Чуть позже приедет поливочная машина, и я побегу перед ней, немного раду-ясь.Она расчешет, выпустив прозрачные когти, свалявшуюся траву и уедет.А я останусь.Останусь я, сорву шиповник.Просыпая белые зёрнышки его, двинусь в путь долгий и утомимый.Ни мысли в нём, и в жёлтой слепоте, венок из одуванчиков сплетая, в саду сонливым ангелом плутая, как отраженье в мраморной плите
К босым ступням просёлочной дороги прилив, прилавок груш, неизреченность как будто свежескошенной реки.
Ни осады осиной, спят шмели в джемперах, и дрожит над росинкой летних сумерек прах. Мир так тих и просторен, что в его тишине слышно маковых зёрен созрева-нье во сне. Щёлкнут ставни затвором, и окно, отворясь, задохнётся простором — и проникнет, как будто просветлясь на лету, утончённое утро в июньском цвету, и ещё не обнимет, но, скользнув по лицу, как капустница, снимет с век дро-жащих пыльцу.
И вот прилив песка к босым ступням, как если бы пролился шёлк из складок ночной земли, жасмин, прохладно-сладок, то шевельнётся здесь листвой, то там. Вдоль полотна, вся в блёстках слюдяных, дорога, и лапта босого солнца, и день, разгорячась, уже несётся, и вдруг — река из лилий ледяных.

18Владимир Гандельсман
А в полдень тины сонный серпантин, мостки, полузатопленные ленью, и ход реки по-щучьему веленью так неприметен и необратим.
Под вечер стада хмурое упорство, разматывают головы коровы вдоль улоч-ки из ревеня и рёва и еле разбредаются. Всё просто. Расслабленный, ссылающийся словно на завтра — молока парного запах, округлый и сплошной, на тёплых лапах, и плавно оседающий на брёвна. Не торопиться. К шапочным разборам не поздно никогда. Не торопиться. Пока весь мир един и не дробится и миг не разворован разговором.
Дверь нашарь за Черниговом, спичкой чиркни, там начнётся твоё посвяще-нье, где вокзальный плеврит, кочегары черны, вороватая глушь и свеченьебелотелых, теряющих контуры хат, где летучие ветхие мыши на рассвете крушение крыл обратят в паутину под крышей,дверь нашарь за далёким дыханьем степей, в этой чёрной норе разгребая жар золы, этот воздух, который темней с каждым часом, где, перебиваятяжкий ритм шатуна, — белострочье реки — отголоском любви и свобо-ды — среди груды горячих углей, кочерги, привокзальной тоски небосвода,отвори эту дверь, ты за ней родился, будь так добр или нежен, не знаю, что-то сделай, не знаю, так больше нельзя, говори, говори.
1975 г.P. S.
Детство — это платоновские идеи, — суть вещей в их чистоте, — к этой сути мы возвращаемся, встречаясь с вещами в их «грязном» виде в своей взрослости.
И если у нас есть совесть, то взрослая жизнь, понимаемая как успех, удаваться не может. Потому что отвлечься от подлинности не только невозможно, но и недальновидно. С чем же оставаться, если не с безу-словным?
Другими словами, взрослость удаётся в той мере, в какой ей удаётся забыть жизнь или — что то же самое — забыть смерть. Такое забыва-ние — гарантия прожиточного успеха. Или карьеры. Речь не о служеб-ной лестнице, но об общей упитанности и сытой затуманенности взгля-да. Тело заплывчиво, память забывчива.
P. P. S.При каждом шаге вперёд за мной смыкается прошлое, но художе-
ственному оформлению (творчеству собирания себя) подвластно лишь время, которое не только смыкается, но и кристаллизуется, и его отде-ляет от сию секунду сомкнувшегося полоса «сырого», неосвоенного

19БИО
материала, того, до которого ещё доходит тепло моего существования, физически чересчур ему близкого.
Конец творчества произойдёт тогда, когда скорость кристаллизации превысит мою. Естественно, для этого моё тепло должно свестись к нулю.
Тогда биография закончится и начнётся БИО.
Декабрь 2006 г.

стихи-I

21стихи-I
***
Сквозь тьму непролазную, тьму азиатскую, тьму,где трактор стоит, не имея любви ни к кому,и грязи по горло, и меркнет мой разум,о как я привязан к Земле, как печально привязан! Ни разу так не были дороги ветви в дожде,от жгучего, влажного и торопливого чтеньяя чувствую, как поднимается сердцебиеньеи как оно глохнет, забуксовав в борозде. Ни разу ещё не желалось столь жадностно жить,так дышит лягушка, когда малахит её душат,но если меня невзначай эти ночи разрушат,то кто, моя радость, сумеет тебя говорить? Так вот что я знаю: когда меня тянет на дноЗемли, её тягот, то мной завоёвано правотебя говорить, ну а меньшего и не дано,поскольку Земля не итог, но скорей переправа. Над огненным замком, в котором томится зерно,над запахом хлеба и сырости — точная бездна,нещадная точность! но большего и не дано,чем это увидеть без страха, и то неизвестно.

22Владимир Гандельсман
***
Расширяясь теченьем реки, точно криком каким,точно криком утратив себя до реки, испещрённой стволами,я письмом становлюсь, растворяясь своей вопрекиоболочке, ещё говорящей стихами. Уходя шебуршаньем в пески, точно рыба, вискизарывая в песчаное дно, замирающим слухом...Как лишиться мне смысла и стать только телом реки,только телом, просвеченным — в силу безмыслия — духом. Только телом, где кровь прорывает ходы, точно крот,пронося мою память, её разветвляя на жилы...Я к тебе обращён, и теперь уже время не в счёт,обращённым к тебе, исчезаю в сознании силы. Опыт горя и опыт любви непомерно даютпревращение в сердце, лишённое координаты,оно — всё, оно — всюду, с ним время в сравнении — зуд,бормотание, шорох больничной палаты. И теперь всемогущество зрения — нежность его,пусть зрачок омывает волна совершенным накатом,это значит, пробившись за контур, слилось существос мнимо внешним и мнимо разъятым.

23стихи-I
***
Бывали дни безмыслия, июльна цыпочках заглядывал с балкона,и проникал, чуть оживляя, тюль,и к изголовью свет струил наклонно.Бывали дни — не верил, что умру,когда нас ночь на даче заставала,и сад сиял, и больше никому,нигде и никогда не предстоялане только ты, но эта полнота,утишившая время до приметы.Я и теперь не верю, хоть онаизнемогла, распавшись на предметы.Я и теперь не верю, но слабей.Скажи: волна уходит, оставляявоспоминанья в линзах пузырей,один пузырь с другим сопоставляя...Но человек, склонённый над столом,не слышит, как стучит металлоломи мёртвые клешни передвигает,он времени волну одолевает,и всё его живое существовтройне одарено одним мгновеньем:июльским днем, бессмертным помышленьеми точным воплощением его.

24Владимир Гандельсман
***
Воти Нила разлив,
крокодильского Нила,крокодильского Нила разлив.
На окраине Фивночь слезы, говоришь? Как ты плачешь, Исида, красиво,
очи полузакрыв.
Тыпрекрасна, ты миф,одаряющий щедро
благодарные полосы нив.Но поблизости Фив
мне к отплытью готовиться в барке ливанского кедра,слышишь арфы призыв?
Не
дожив до войны(слава богу Амону!),
пару лет не дожив до войны,я загробной страны
дуновению внял и поддался холодному гонутой змеиной волны,
той
волны, исподвольабиссинскою кровью
гор увитой... Но так не неволь,распусти мою боль,
мой клубок жизнелюбия, крови, прокорма, здоровья,и не сыпь эту соль!
И
бескрайний песок,и просторы не эти ль
я любил, но не мог, но не могтебе верить, мой бог...
Моё сердце, пишу, не восстань на меня как свидетельпо ту сторону строк.

25стихи-I
***
Я тоже проходил сквозь этот страх –раскрыв глаза,
раскрыв глаза впотьмах, –всех внутренностей, выгоравших за
единый миг,
и становился, как пустой тростник,пустой насквозь,
пустее всех пустых,от пальцев ног и до корней волос,
я падал в ад,
точней во тьму, иль в вашу Тиамат,не находя,
где финиковый сад,где друг умерший, где моё дитя,
где солнца жар,
где ты, спускающийся в Сеннаар,где та река
и где над нею пар,где выдохнутый вон из тростника
летучий дар.
Я этим жил на протяженье лет,тех лет моих,
которых больше нетни среди мёртвых, ни среди живых,
я извлекал
звук из секунд, попав под их обвал,благодаря
тому, что умиралприжизненно, а зря или не зря –
поди, измерь...
Не так твоими мускулами зверьзажатый пел,
как я, скажи теперь?Не песней ли и ты перетерпел
ночной кошмар,

26Владимир Гандельсман
ты, с гор спускающийся в Сеннаар?Смотри — река,
смотри — над нею пар,как выдохнутый вон из тростника
летучий дар!
1973–1980 гг.

27стихи-I
Из цикла «Шум Земли»
***
Потому что я смертен. И в здравом уме.И колеблются души во тьме, и число их несметно.Потому что мой разум прекращается разом.Что насытит его, тем что скажет, что я не бездушен,если сам он пребудет разрушен, –эти капли дождя, светоносные соты?это солнце, с востока на запад летяи сгорая бессонно?Что мне скажет, что дождь — это дождь,если мозг разбежится как дрожь?
Так беспамятствует, расщеплено, слово, бывшее Словом,называя небесным уловом то, о чём полупомнит оно.
Для младенческих уст этот куст. Для младенческих глаз.До того, как пришёл Иисус. До того, как Он спас.Есть Земля до названья Земли, вне названья,где меня на меня извели, и меня на зияньеизведут. Есть младенческий труд называнья впервые.
Кто их создал, куда их ведут, кто такие?
Усомнившись в себе, поднося свои руки к глазам,я смотрю на того, кто я сам:пальцы имеют длину, в основании пальцев — по валуну,ногти, на каждом — страна восходящего солнца,в венах блуждает голубизна.
Как мне видеть меня после смерти меня,даже если душа вознесётся?
Этой ночью — не позже.
Беспризорные мраки, в окно натолпившись, крутя занавеску, пугая шуршаньем, бумагу задевая, овеют дыханьем дитя. Дитя шевельнёт губами.Красный мяч лакированный — вот он круглит на полу.
А супруги, разлипшись, лежат не в пылу, и пиджак обнимает в углу спинку стула, и м сляет вилка на столе, и слетают к столу

28Владимир Гандельсман
беспризорные звуки и мраки, и растут деревянные драки веток в комнате, словно в саду.
А бутылка вина — столкновенье светящихся влаг и вертящихся сфер, и подруга пьяна, и слегка этот ветер ей благ — для объятий твоих, например. Покосится страна и запаянный в ней интерьер.Вот вам умное счастье безумных, опьянение юных и вдох для достания дна.
Одинокая женщина спит-полуспит. Если дом разобрать, то подушка висит чуть пониже трубы заводской, чуть повыше канавы. Станет холодно пуху в подушке. Спит гражданка уснувшей державы, коченея в клубочке, как сушка.Ты пейзаж этот лучше закрой.
Ночь дерева, каторжника своих корней, дарит черномастных коней, разбегающихся по тротуару.Ночь реки, шарящей в темноте батарей, загоняет под мост отару золоторунных огней.Ночь киоска, в котором желтеет душа киоскёра.Ночь головного убора на голове манекена.Ночь всего, что мгновенно.
Проживём эту ночь, как живут те, кто нищи. Разве это не точный приют — пепелище? Что трагедия, если б не шут, тарабанящий в днище?
Вот почему ты рвёшься за предмет, пусть он одушевлён, — чтоб нищенствовать.Там, где пройден он, к нему уже привязанности нет.Две смерти пережив — его и в нём свою, — не возвращай земного лика того, кто побеждён, как Эвридика. Для оборотней мёртв его объём.Лишь ты владеешь им, когда насквозь его прошёл, твои края не те, где нищенствуют вместе или врозь, — но нищенствуют в полной нищете.
Здесь расстаются, нервы на разрыв испытывают, ненависть вменив в обязанность себе для простоты, здесь женщина кричит из пустоты лет впереди.Печальнейший мотив.А более печального не жди.
Старушечьи руки, и рюмочка из хрусталя, и несколько капель пустырника, и опасенье, что жизнь оборвётся вот-вот, но ещё, веселя, по капле даётся, и вкусно сосётся печенье. И крылышки моли из шкапа летят, нафталя.
В большую глубину уходит кит, чернильной каплей в толщу океана

29стихи-I
опущена душа левиафана, полночная душа его не спит. Он с общим содержаньем столь же слит, сколь форма его в мире одинока, и, огибая континент с востока, — уходит, как чутьё ему велит.
И высится в море терпенье скалы, осаждённой таким неслыханным ветром морским, что слышится ангелов пенье.
И разум упорствует, противоборствуя тьме. Но тотчас, из хаоса выхвачен самосознаньем, он хочет бежать бытия и вернуться к зиянью, подобному небу, когда оно ближе к зиме.Бедняжливый узник в своей одиночной тюрьме страстей, он расхищен на страхи, любовь, покаянье, и нет ему выбора — только принять умиранье всего, что он слышит, принять его в ясном уме.
***
Я верил в бога Ра,я богоравным был,пока в ладье я плыл,пока сиял он дивно,пока я неотрывновесь день за ним следил.
Я был ребёнком, мирмой бог мне даровал,я жил, я ликовал,и в той песчаной почвемой мёртвый предок порчи,спелёнутый, не знал.
И вдруг мой бог погас,и стала жизнь темна,и, не нащупав дна,я побежал, безумясь,в пески, где, как Анубис,лежала ночь одна.
Там верховодил лев,там царствовал орёл,там друга я нашёлземной надёжней тверди,он спас меня от смертии сам её обрёл.

30Владимир Гандельсман
И вот с лица Землимогучий друг исчез,я землю рыл, я лезза ним в земные недра,но не нашёл, как ветра,его ни там ни здесь.
И я пошёл бродить,и я бродяжил век,и увидал ночлег –то некто шел из Ура,был препоясан шкуройовечьей человек.
И я пристал к нему,и пас его стада,и в поздний час, когдастада и травы никнут,я трижды был окликнут:«Ты слышишь голос?» — «Да».
И духом я окреп,и жертвенник возжёг,и агнца я рассёк,звезде падучей вторя,и предо мною моремне расстелил мой Бог.
***
Так посещает жизнь, когда ступня снимаетпесчаный слепок дна,так посещает жизнь, как кровь перемещаетвовне, и, солона,волну теснит волна, как складки влажной тушилилового и мощного слона,распластанного заживо на суше,и в долгий слух душа погружена,
так посещает жизнь, как посещает речьнемого, — не отвлечься, не отвлечь,и глаз не отвести от посещенья,и если ей предписано истечь –из сети жил уйти по истеченье

31стихи-I
дыхания, — сверкнув, как камбала,пробитая охотником, на пеклотащимая — сверкнула и поблекла, –то чьей руки не только не избегла,но дважды удостоена быластоль данная и отнятая жизнь.
Я Сущий есмь — вот тварь Твоя дрожит.
***
Ляжем, дверь приоткроем,свет идёт по косой,веет горем, покоеми песчаной косой,
это жизнь своим зовомобращается к нам,вея сонным Азовомс Сивашом пополам,
ты запомни, как дологэтот мыслящий миг,что проник к нам за пологи протяжно приник.
***
Проснувшись от страха, я слышал, он вывел меняиз ряда предметов, уравненных зимней луною,ещё затихала иного волна бытия,как будто в песке, несравненно омытом волною,
ещё возбегали в ту область её мураши,нетрезвые пузы, зыри, не успевшие смыться,и запечатлелась озёрная светлость души,пока на окраинах доцокотали копытца,
причиною страха был ангел, припомненный изангины и игл, бенгальским осыпанных златом,и если продолжить, то чудные звуки неслись,и створки горели, просвечены тонко гранатом,
и женщина, ты –

32Владимир Гандельсман
из белого тела была ты составлена так,как песня того, кто тебя бесконечно утратил,тот лирик велик был и мной завоёванных благон более стоил, поэтому их и утратил,
он был вожаком, протрубившим начало поры,когда с водопоем едины становятся звери,и в джунглях у Ганга топочут слоны как миры,и тени миров преломившись ложатся на двери,
и фермер Флориды следит, как порхающий прахмонарха, чьи крылья очерчены дельтой двойною,своим атлантическим рейсом связует мой страхс его стороною,
и запах был тот, что потом к этой жизни вернёт,явившись случайно, явившись почти что некстати,и свет, что так ярок, и страх, что внезапно берёт,впервые горят над купаньем грудного дитяти.
1979–1981 гг.

33стихи-I
***
Валерию Черешне
Назови взволнованностью земликараваном идущие по горизонту горы,тем же, тем же покоем дышать вдалиот себя, темнеющий шаг нескорый, восходящий к небу и нисходящий шаг,книгочей, оторвавшийся от страницы,так взволнован, но и спокоен так,ни приблизиться не умея, ни отстраниться, освещённое осени сумерек вещество,царь, не знающий кто он, в своем убранстве,так в игре водящий — мгновение — никого,обернувшись, не ищет в пустом пространстве.

34Владимир Гандельсман
***
Чудной жизни стволы,чудной жизни извилистойне увидишь, сгорев до золы,зелень, зелень сквози листвы, лягушачий твой пульстонкой ветвью височноюзамедляясь в согласных — «ветвлюсь» —говорит и, высь точную в гласных бегло явив,нотной тенью пятнистоюпо земле пробегает, приливсвета в запись втянись мою, без остатка втянись,чтоб не знали о пролитомдне ушедшие намертво вниз,чтоб не ведали боли там, равной тленья крупицтяге — смерти перечащей –тяге: зыблемый воздух границзреньем вспять пересечь ещё.

35стихи-I
***
О, вечереет, чернеет, звереет река,рвёт свои когти отсюда, болят берега,осень за горло берёт и сжимает рука,пуст гардероб, ни единого в нём номерка. О, вечереет, сыреет платформа, соритурнами праха, короткие смерчи творит,курит кассир, с пассажиркою поздней острит,улица имя теряет, становится стрит. Я на другом полушарии шарю, ищаценты, в обширных, как скука, провалах плаща,эта страна мне не в пору, с другого плеча,впрочем, без разницы, если сказать сгоряча. Разве, поверхность почище, но тот же подбой,та же истерика поезда, я не слепой,лучше не быть совершенно, чем быть не с тобой.Жизнь — это крах философии. Самой. Любой. То ли в окне, как в прорехе осеннего дня,дремлет старик, прохудившийся корпус креня,то ли ребёнка замучила скрипкой родня,то ли захлопнулась дверь и не стало меня.

36Владимир Гандельсман
***
Я возьму светящийся той зимы квадрат(вроде фосфорного осколкав чёрной комнате, где ночует ёлка),непомерных для нашей зарплаты трат,я возьму в слабеющей лампе бедный быт(меж паркетинами иголка),дольше нашего — только чувство долга,Богом, радуйся горю, ты не забыт. Близко, близко поднесу я к глазам окнос крестовиной, упавшей теньюна соседний дом, никогда забвеньюпоглотить этот жёлтый свет не дано.И лица твоего я увижу овал,руку с лёгкой в изгибе ленью,отстранившую книгу, — куда там чтенью,подниматься так рано, провал, провал. Крики пьяных двора или кирзовый скрип,торопящийся в свою роту,подберу в подворотне, подобной гроту,ледяное возьму я мерцанье глыб,со вчера заваренный я возьму рассветв кухне... стало быть, на работу...отоспимся, радость моя, в субботу,долго нет её, долго субботы нет. А когда полярная нас укроет ночьофицерской вполне шинелью,и когда потянется к рукодельюснег в кругах фонарей, и проснётся дочь,испугавшись за нас, — помнишь пламенный трудбыть младенцем? — то, канительюнад её крахмальной склонясь постелью,вдруг наступят праздники и всё спасут.

37стихи-I
***
Я посвящу тебе лестниц волчки,я посвечу тебе там,сдунуло рукопись ветром, клочкис древа летят по пятам, в лестницах, как в мясорубках, кружа,я посвящу тебе нитьтой паутины, с которой душалюбит паучья дружить, лестниц волчки, или власти тычки,крик обезьян за стеной,или оркестра косые смычкимарш зарядят проливной, гостя, за маршем берущего марш,я посещу ту страну,где размололи не хуже, чем фарш,слабую жизнь не одну, вешалок по коридору крючки,я посвечу тебе в нём,на два осколка разбившись, в зрачкинеба упавший объём, надо бумагу до дыр протереть,чтобы и лист, как листва,мог от избытка себя умереть,свет излучив существа.

38Владимир Гандельсман
***
Остановка над дымной Невой,замерзающей, дымной,чёрный холод зимы огневой –за пустые труды мне, хищно выгнут Елагин хребет,фонари его дыбом,за пустые труды этот бредв уши вышептан рыбам, за гранёный стакан наплавуресторана «Приморский»,за блатную его татарвув мерзкой слякоти мёрзкой, то ль нагар на сыром фитиле,то ли почва паскудна,то ли небо сидит на иглетретий век беспробудно, в порошок снеговой ли сотрутэтот город ледащийза пустой огнедышащий труд,в ту трубу вылетавший, или «нет» говори, или «да»,Инеадой вдоль древа,чёрной сваей за стёклами льда,вбитой в грудь мою слева.

39стихи-I
***
Тому семнадцать, как хожу кругамивокруг постов своих сторожевых,над реками, семнадцать берегамия лет хожу в пространствах нежилых,дыханием моим за стадиономотопленных, с футбольною землёй,раскомканной, под воздухом бездоннымвсё началось, кипящею смолойна дальних пустырях, с теней в бушлатах,с вагончиков отцепленных, томуназад семнадцать, с вечера поддатых,смурных и сократившихся до СМУс утра, когда бредя с автостоянки,я согревался начатым в глухомуглу одной бытовки у жестянкис окурками спасительным стихом,продолженным в заснеженных колоннахЕлагина на шатком топчане,среди котлов, на угле раскалённых,волчат огня, в своей величинеразогнанных до высыпавшей стаишипенья на рождественском снегу,семнадцать, как губерния пустаяпошла и пишет через не могураскуренным стихом на финском фоне,над мёртвой рыбой с фосфором из глаз,в другой бытовке скуку на Гудзонеразвеявшим и конченным сейчас.

40Владимир Гандельсман
***
Ранним, ранним утром бредётсято по снегу серому, то по лужам,где, жена, мы с тобою служим? –где придётся, помнится, где придётся,кто бы мог подумать, что обернётсяхудшее время жизни — лучшим. С разводным ключом идёшь, теплоцентраоператор ты или слесарь,блиннолицый, помнится, правит цезарь,и слова людей не янтарь и цедра;с пищевыми отходами я таскаю вёдра;память — как бы обратный цензор. Тени, тени зябкие мы недосыпа,февраля фиолетовые разводына домах, на небе, на лицах, сводыподворотни с лампочкой вроде всхлипа.Память с мощью царя Эдипавдруг прозреет из слепоты исхода. И тогда предметы, в неё толпоюхлынув — ёлки скелетик, осколок блюдца,рвань газеты, — в один сольютсясветовой поток — он казался тьмоютам, в соседстве с большой тюрьмою,с ложью в ней правдолюбца, – чтоб теперь нашлось ему примененье:залатать сквозящие дыры окондня рассеянного, который сотканиз пропущенных (не в ушко) мгновений,то, что есть, — по-видимому, и есть забвенье,только будущему раскрытый кокон.

41стихи-I
***
Лучшее время — в потёмкахутра, после ночнойсмены, окно в потёках,краткий уют ручной. Вот остановка мира,поршней его, цепей.Лучшее место — квартира.Крепкого чая попей. Мне никто не поможетжизнь свою превозмочь.Лучшее, что я видел –это спящая дочь. Лучшее, что я слышал –как сквозь сон говоришь:«Ты кочегаркой пахнешь...» —и наступает тишь.

42Владимир Гандельсман
ЦАПЛЯ
Сама в себя продета,нить с иглой,
сухая мысль аскета,щуплый слой,
которым воздух бережно проложен,его страниц закладка
клювом вкось, —она как шпиль порядка,
или ось,или клинок, что выхвачен из ножен
и воткнут в пруд, где рыбы,
где вокругчешуй златятся нимбы,
где испугкруглее и безмолвнее мишени,
и где одна с особымвзглядом вверх,
остроугольнолобым,тише всех
стоит, едва колеблясь, тише тени.
Тогда, на старте медля,та стрела,
впиваясь в воздух, в свет ли,два крыла
расправив, — тяжело, определённо,и с лап роняя капли, —
над прудомлетит, — и в клюве цапли
рыбьим ртомразинут мир, зияя изумлённо.

43стихи-I
***
Вадиму Месяцу
Я жил в чужих домах неприбранных,где лучше было свет гасить,чем зажигать, и с этих выдранныхстраниц мне некому грозить. К тому же тех, что под обложкоюстраниц, — и не было почти.Ложился лунною дорожкоюсвет ночи, сбившийся с пути, свет ночи, пылью дома траченный,ложился на пол, а прикрывглаза, я видел негра в прачечной –он спал под блоковский мотив. Казалось, сон ему не нравится,а свет тем более не мил,и если то, с чем надо справиться, –есть жизнь, то он не победил. Я шёл испанскими кварталами,где над верёвкой бельевойи человеками усталымимаячил мяч полуживой. И в окнах фабрики, как водится,полузаброшенной, — закатискал себя, чтобы удвоиться,и уходил ни с чем назад. Всё было выбито, измаяно.Стояла Почта, дом без черт,где я, как верный пес — хозяина,порой облизывал конверт. В тех городках, где жить не следует,где в жаркий полдень страховойагент при галстуке обедаетс сотрудницей нероковой,

44Владимир Гандельсман
в тех городках, что лучше смотрятсяпроездом, бегло, как дневник,в который — любят в нём иль ссорятся –не важно, — ты не слишком вник, – чем становилось там дождливее,тем неуверенней я знал,что всё могло быть и счастливее.Но не было, как я сказал.

45стихи-I
УТРЕННИЙ МОТИВ
На асфальте мечетсямышь, кыш, мышь,сторож это, сменщица,мусорщик, малыш, семенит цветочница,шарк, шурк, шарк,точность мира точнится,в арках аркнет арк, взрыв бенгальский сварщика,сверк, сварк, сверк,голубого росчеркамеркнуть медлит мерк, льётся, не артачитсясвят свет свит,тачка утра тачится,почтальон почтит, Чарли это брючится,блажь, мышь, блажь,ночь в чернилах учитсянебу тихих чаш, пусть проходят где-нибудь,клёш крыш клёш,душу учит небо ведьпростираться сплошь.
1995–1997 гг.

46Владимир Гандельсман
СТИХИ ПАМЯТИ ОТЦА
1Ночь. Туман невпродых.И — лицом к октябрю –надо прежде родныхисчезать, говорю. Речь, которая естьу людей, не берёт.В большей степени вестьо тебе — этот крот. Потому что он слеп.Слепок чёрных глазниц.В большей степени — степь.Холод. Ночь без границ.
2Узкий, коричневый, на два замка саквояж,синие с белыми пуговицами кальсоны,город, запаянный в шар с глицерином, вояжв баню, суббота, зима и фонарь услезённый, за руку, фауна булочной сдобная: гусь,слон, бегемот — по изюминке глаза на каждом,то и случилось, чего я смертельно боюсьтам, в простыне, с лимонадом в стакане бумажном, то и случилось, и тот, кто привыкнуть помогк жизни, в предбаннике шарф завязавший мне, — столь жек смерти поможет привыкнуть, я не одинок,страшно сказать, но одним собеседником больше.
3Я шлю тебе вдогонку город Сновск,путей на стрелке быстрые разбеги,хвостом от оводов тяжеловозотмахивается, на телеге

47стихи-I
шагаловский с мешком мужик-еврей,смесь русского с украинским и с идиш,мишугинер побачит тех курейи сопли разотрёт в слезах, подкидыш, весь местечковый, рыжий, жаркий раж, всю утварь роя, всё, чем мне казалсятот город, всю языческую блажь, –египетский ли плен в крови сказался, не знаю... Эту жизнь, которой нет,которая мне собственной телеснейбыла, на ту ли тьму, на тот ли светя шлю тебе мой голос бесполезный, как в Белгороде где-нибудь, схвативв охапку свёрток груш, с толпой мешаясь,под учащённый пульс-речетатив, –ты отстаёшь, в размерах уменьшаясь, и я иду к тебе, из темнотытебя вернув, из немощи, из страха,как блудный сын, с той разницей, что тыприжат к моей груди как короб праха.

48Владимир Гандельсман
***
Футбол на стадионе имениСергей Мироновича Кировавторого стриженого синегона стадионе мая миру мир под небом бегло гофрированнымрядами полубоксы тыльныелевее ясно дышит море тамблистательно под корень спилено на стадионе мая здравствуетфлажки труду зато в бою легкоплакатом мимо государствуетбутылью с жигулёвским булькают парада ДОСААФ равнениемидут руками всё размашистейи вывернутым муравейникоммеж секторов сползанье в чашу тел потом замрёт и страшно высь течётнад стадионом С.М. Кироваудары пустоты стотысячнойвторого стриженого миру мир по узеньким в часы песочныев застолье ускользают сумеркидо Дня Победы обесточеноизвилиной сверкнёт лишь ум реки

49стихи-I
***
Из пустых коридоров мастики,солнцерыжих паркета полос,из тик-така полудня, из тихих,тише дыбом встающих волос, сохлым запахом швабры простенной,труховой мешковиной ведра,с подоконника пьющих растенийвверх косея фрамуги дыра, перочисткой и слойкой в портфеле,Александров под партой ползётк Симакову, который неделичерез две от желтухи умрёт, безъязыкие громы изъятыгорячо, и в продутых ушахдве глухие затычки из ваты,и уроки труда на стежках, и на солнце прозрачные вещи,и пчела к георгину летит,в вакуолях пространства трепещет,слюдяное безмолвье слезит, то, что вижу, — не зрение видит,не к тому — из полуденных тоск –сам себя подбирает эпитети лучом своим ломится в мозг.

50Владимир Гандельсман
***
В георгина лепестки уставясь,шёлк китайский на краю газона,слабоумия столбняк и завязь,выпадение из жизни звона, это вроде западанья клавиш,музыки обрыв, когда педальюзвук нажатый замирает, вкладышв книгу безуханного с печалью, дребезги стекла с перифериизрения бутылочного, трепетлески или марли малярия —бабочки внутри лимонный лепет, вдоль каникул нытиком скитайся,вдруг цветком забудься нежно-тускло,как воспоминанья шёлк китайскийузко ускользая, ольза, уско

51стихи-I
***
По коридорам тянет зверем,древесной сыростью, опилками,и — недоверьем —дитя с височными прожилками,и с лестниц чёрныхидут какие-то с носилками —все в униформах. Провоет сиплая сирена,пожарная ли это, скорая,пуста арена,затылок паники за штороюмелькнёт, и ярусиз темноты сорвётся свороюлиствы на ярость. Он не хотел на представленье,оставь в покое неразумноедитя, колениего дрожат, и счастье шумноеразит рядами, –как он, его не выношу, но язачем-то с вами. Горят огни большого цирка,прижмётся к рукаву доверчиво —на ручках цыпки(я плачу) — мальчик гуттаперчивый...Скорей, в автобус,обратно всё это разверчивай,на мир не злобясь. Они не знали, что творили —канатоходцы ли под куполомпути торили,иль силачи с глазами глупымишвыряли гири,иль, оснежась, сверкали купамидеревья в мире.

52Владимир Гандельсман
***
Поднимайся над долгоиграющим,над заезженным чёрным катком,помянуть и воспеть этот рай, ещёв детском горле застрявший комком, эти — нагрубо краской замазанныхламп сквозь ветви — павлиньи круги,в пору казней и праздников массовыхты родился для частной строки, о, тепло своё в варежки выдыши,чтоб из вечности глухонемойголос матери в форточку, вынувшийдушу, чистый услышать: «Домой!» — и над чаем с вареньем из блюдечкарайских яблок, уставясь в однуточку дрожи, склонись, чтобы будничный выпить ужас и впасть в тишину.

53стихи-I
***
Тихим временем мать пролетает,стала скаредна, просит: верни,наспех серые дыры латает,да не брал я, не трогал, ни-ни, вот я, сын твой, и здесь твои дщери,инженеры их полумужья,штукатурные трещины, щели,я ни вилки не брал, ни ножа, снится дверь, приоткрытая вором,то ли сонного слуха слои,то ли мать-воевода дозоромокликает владенья свои, штопка пяток, на локти заплатки,антресоли чулков барахла,в боевом с этажерки порядкеснятся строем слоны мал-мала, ничего не разграблено, видишь,бьёт хрусталь инфернальная дрожь,пятясь за полночь из дому выйдешьи уходишь, пока не уйдёшь.

54Владимир Гандельсман
***
Птица копится и цельновдруг летит собой полнакрыльями членораздельночертит в на небе она облаков немые светниподнимающийся знойтело ясности соседнейпролетает надо мной в нежном воздухе доверьяв голубом его цехув птицу слепленные перьядержат взгляд мой наверху

55стихи-I
***
Это некто тычется там и мечется,в раковину, где умывается, мочится,ищет курить, в серой пепельницепальцев следы оставляет, пялится, пятится, это кому-то хворается там и хнычется,ноют суставы, арбуза ночного хочется,ноги его замирают, нашарив тапочки,задники стоптаны, это сынок о папочке, это арбузы дают из зелёных клетей, поди,ядра, бухой бомбардир, в детском лепетежизни, дождя — ухо льнёт подносящегок хрусту, шуршит в освещении плащ его, это любовью к кому-нибудь имярек томим,всякое слово живое — есть реквием,словно бы глубоководную рек таимтайну о смерти невидимой всплесками редкими, где твои дочери, к зеркалу дочередькончилась, смылись, вернулись брюхатые, ночи ведь,где твой сынок, от какой огрубевшие пяточкидевки уносит, это сынок о папочке песню поёт, молитву поёт поминальную,эй, атаман, оттоманку полутораспальную,с ним на боку, хрипящим, потом завывшим,имя сынка перепутавшим с болью, забывшим.

56Владимир Гандельсман
***
и одна сестра говорит я сдохнускорее чем кивая туда где матья смотри уже слепну глохнуи уходит её кормить
и другая кричит она тожечеловек подпоясывая халатхоть и кости одни да кожадоживи до её престарелых лет
доживёшь тут первая сквозь шипеньеи подносит к старушечьему ртуложку вторая включает радиопеньеи ведёт по пыли трюмо черту
что кривишься боишься ли что отравимчто на тот боишься ли что отправимАнтигона стирает пыльесть прямые обязанности мне её жаль
говорит Исмена хоть нанимай сиделкутоже стоит немалых денегпричитая моет стоит тарелкуза границей вертится брат Полиник
ни письма от него ничего в поминеАнтигона кричит и приносит суднода-да-да да-да-да но о ком о сынемать их дакает будь неладна
иль о муже поди пойми тутто заплачет рукой махнёт отвяжитесьот Полиника пожелтелый свитокей одна читает другая выносит жидкость
Аполлоном прочно же мы забытыговорит одна вечереет и моет другая рукии сменяет музу раздражённой заботыМеланхолия муза скуки
потому что выцвести даже горюудаётся со временем и на склонеснится Исмене поездка к морюи могила прибранная Антигоне

57стихи-I
***
Мать исчезла совершенно.Умирает даже тот,кто не думал совершенно,что когда-нибудь умрёт. Он рукой перебираетодеяла смертный край,так дитя перебираетклавиши из края в край. Человека на границахпредставляют два слепых:одного лицо в зарницахузнаваний голубых, по лицу другого тенипробегают темноты.Два слепых друг друга встретяти на ощупь скажут: ты. Он един теперь навеки,потому что жизнь сошласьнасмерть в этом человеке,целиком себя лишась.

58Владимир Гандельсман
ВОСКРЕШЕНИЕ МАТЕРИ
Надень пальто. Надень шарф.Тебя продует. Закрой шкаф.Когда придёшь. Когда придёшь.Обещали дождь. Дождь.
Купи на обратном путихлеб. Хлеб. Вставай, уже без пяти.Я что-то вкусненькое принесла.Дотянем до второго числа.
Это на праздник. Зачем открыл.Господи, что опять натворил.Пошёл прочь. Пошёл прочь.Мы с папочкой не спали всю ночь.
Как бегут дни. Дни. Застегниверхнюю пуговицу. Онитолкают тебя на неверный путь.Надо постричься. Грудь
вся нараспашку. Можно сойти с ума.Что у нас — закрома?Будь человеком. НЗ. БУ.Не горбись. ЧП. ЦУ.
Надо в одно местечко.Повесь на плечики.Мне не нравится, какты кашляешь. Ляг. Ляг. Ляг.
Не говори при нём.Уже без пяти. Подъём. Подъём.Стоило покупать рояль. Рояль.Закаляйся как сталь.
Он меня вгонит в гроб. Гроб.Дай-ка потрогать лоб. Лоб.Не кури. Не губилёгкие. Не груби.
Не простудись. Ночью выпалснег. Я же вижу — ты выпил.Я же вижу — ты выпил. Сознайся. Тыостаёшься один. Поливай цветы.

59стихи-I
***
Хочешь, всё переберу,вечером начну — закончув рифму: стало быть, к утру.Утончу, где надо тонче. Муфта лисья и каракуль,в ботах хлюпает вода,мало видел, много плакал,всё запомнил навсегда. Заходи за мной пораньше,никогда не умирай.Не умрёшь? Не умирай же.Нежных слов не умеряй. Я термометр под мышкойбуду искренне держать,под малиновою вспышкойто дышать, то не дышать. Человек оттуда родом,где пчелиным лечат мёдом,прижигают ранку йодом,где на плечиках печаль,а по праздникам хрусталь.Что ты ищешь под комодом?Бьют куранты. С Новым годом.Жаль отца и маму жаль. Хочешь, размотаю узел,затянул — не развязать.Сколько помню, слова трусил,слова трусил не сказать. Фонарей золоторунныйвечер, путь по снегу санный,день продлённый, мир подлунный,лов подлёдный, осиянный. Ленка Зыкова. Каток.Дрожь укутана в платок.

60Владимир Гандельсман
Помнишь, девочкой на взморье,только-только после кори,ты острижена под нольи стыдишься? Помнишь боль? А потом приходят гости.Вишни, яблони, хурма,винограда грузны гроздья,нет ни зависти, ни злости,жизнь не в долг, а задарма.После месяцев болезниты спускаешься к гостям –что на свете бесполезнейсчастья, узнанного там? Чай с ореховым вареньем.За прозрачной скорлупойсо своим стихотвореньемкто-то тычется слепой. Это, может быть, предвестьенашей встречи зимним днём.Человек бывает вместе.Всё приму, а если двестиграмм — приму и в виде местисмерть, задуманную в нём. Наступает утро. Утро –хочешь в рифму? — это мудро,потому что можно лечьи забыть родную речь.

61стихи-I
ТЕМА
Друг великолепий погод,ранних бронетранспортёров в снегу,рой под эту землю подкоп,дай на солнце выплясать сапогу.
Зиждься, мальчик розовый,мальчик огненный,воздух примири с разовойголовой, в него вогнанной.
То стучат стучьмя комья вбок,самозакаляясь железа гудит грань,солоно сквозь кожу идёт сок,скоро-скоро уже зарычит брань:
Мне оторвало голову,она летит ядром,вон летит, мордя, –о, чудный палиндром!
Пуля в сердце дождя, в сердце голого. Дождь на землю пал – из земли в обратный путь задышал. Мне оторвало голову, она лежит в грязи, в грязь влипая, мстит. О, липкие стези! О, мстихи, о, мутит, о, бесполого. Мылься, мысль, петлёй, вошью вышейся или тлейся тлёй:
Я ножом истычу шею твою, как баклажан,то отскакивая в жабью присядку, тос оборотами балеруна протыкая вновьи опять кроша твою, падаль, плоть.
Я втопчу лицо твоё, падаль, в грязьи взобью два глаза: желтки зрачков и белки,а расхрусты челюстей под каблукомотзовутся радостью в моём животе:

62Владимир Гандельсман
Руки, вырванные с мясом шерстикрылым богом Марсом, руки по полю пошли, руки, вырванные с мясом шестирылым богом Марсом, потрясают кулаками: не шали! Ноги ходят каблуками, сухожилия клоками трепыхаются в пыли, ноги месят каблуками пищеводы с языками, во в евстахиевы трубы вбито «Пли!»
Развяжитесь, лимфатические узлы,провисай, гирлянда толстой кишки,нерв блуждающий, блуждай, до золыпрогорайте рваной плоти мешки.
Друг высокопарных ночей,росчерков метеоритных, спрошуя о стороне: ты на чьей? —и одним плевком звезду погашу.

63стихи-I
ЭМИГРАНТСКОЕ
День окончен. Супермаркет,мёртвым светом залитой.Подворотня тьмою каркнет.Ключ блеснёт незолотой. То-то. Счастья не награбишь.Разве выпадет в лото.Это билдинг, это гарбидж,это, в сущности, ничто. Отопри свою квартиру.Прислонись душой к стене.Ты не нужен больше миру.Рыбка плавает на дне. Превращенье фрукта в овощ.Середина ноября.Кто-нибудь, приди на помощь,дай нюхнуть нашатыря. По тропинке проторённой –раз, два, три, четыре, пять –тихий, малоодарённыйчеловек уходит спать. То ль Кармен какую режутв эти поздние часы,то ль, ворьё почуяв, брешутприпаркованные псы. Край оборванный конверта.Край, не обжитый тобой,с завезённой из Пуэрто-Рико музыкой тупой. Спи, поэт, ты сам несносен.Убаюкивай свой страх.Это билдингская осеньв тёмно-бронксовых лесах.

64Владимир Гандельсман
Это птичка «фифти-фифти»поутру поёт одна.Это поднятая в лифтенежилая желтизна. Рванью полиэтиленабес кружит по мостовой.Жизнь конечна. Смерть нетленна.Воздух дрожи мозговой.

65стихи-I
ПАРТИТУРА БРОНКСА
Выдвиньте меня в луч солнечныйдети разбрелись по свету сволочидай-ка на газету мелочи развелось в районе чёрной нечистиноют как перед дождём конечностичто здесь хорошо свобода личности нет я вам скажу товарищичто она такие варит щицвет хороший но немного старящий он икру поставит чтоб могла жеватькаждый будет сам себе налаживатья прямая не умею сглаживать как ни встречу все наружу прелестив пятницу смотрю пропали челюститихие деревья в тихом шелесте тихие деревья среди сволочив щах луч золотится солнечныйразвелось в районе чёрной мелочи нет я вам скажу от нечистия прямая разбрелись конечностицвет хороший но немного личности он икру поставит чтоб товарищикак перед дождём такие варит щикак ни встречу все наружу старящий дети разбрелись но чтоб могла жеватьдай-ка на газету сам налаживатьчто здесь хорошо умею сглаживать выдвиньте меня наружу прелестикаждый будет сам пропали челюститихие деревья в тихом шелесте

66Владимир Гандельсман
***
В полях инстинкта, искренних, как щитползущей черепахи, тот,
что сценами троянских битв расшит,не щит, так свод,
землетрясеньем стиснутый, иль видисходных вод,
в полях секундных, заячьих, среди
не разума и не любви,но жизни жаб, раздувшихся в груди,
травы в кровирасклёванной добычи впереди, –
живи, живи.
Часторастущий, тыщий, трущий глазпрохожему осенний лес —
вот клёкот на его сквозной каркаслетит с небес,
вот некий профиль в нем полудивясь-полуисчез.
Небесносенний, сенный, острый дух,
сыреющий, стоит в краях,где розовый олень, являя слух,
в котором страхс величьем, предпочтёт одно из двух,
и значит — взмах
исчезновенья, как бы за экран,сомкнувшийся за ним, и в нём
вся будущая кровь смертельных рангорит огнём,
когда, горизонтально выгнув стан,он станет сном.
Темнеет. Натянув на темя плед,прощальный выпростает луч,
как пятку, солнце, и погаснет следв развалах туч.
Рождай богов, сознание, им светссужай, не мучь

67стихи-I
себя, ты без богов не можешь — лги,их щедро снарядив. Потом,
всесильные, вернут тебе долгив тельце литом.
Трактуй змею, в шнуре её ни зги.Или Содом.
Сознание, твой раб теперь богат,
с прогулки возвратясь и дарпоследний обретя, пусть дом объят
(ужель пожар?)сплошь пламенем, все умерли подряд,
и сам он стар.

68Владимир Гандельсман
БАЛЛАДА ПО УХОДУ
Шёл, шёл дождь, я приехал на их, я приехал на улицу их, наих,всё друг друга оплакивало в огневых. Мне открыла старая в парике,отраженьем беглым, рике, рике,мы по пояс в зеркале, как в реке. Муж в халате полураспахнутом,то глазами хлопнет, то ахнет ртом,прахом пахнет, мочой, ведром. Трое замерли мы, по стенам часы шуршат.Сколько времени! — вот чего нас лишат:золотушной армии тикающих мышат. Сел в качалку полуоткрытый рот,и парик отправился в спальный грот.Тело к старости провоняет, потом умрёт. О бессмысленности пой песню, пой,я сиделка на ночь твоя, тупой,делка, аноч, воя, упой. То обхватит голову, то ковырнёт в ноздре,пахом прахнет, мочой в ведре,из дыры ты вывалился, здыры ты опять в дыре. Свесив уши пыльные телефон молчит,пересохший шнур за собой влачит,на углу стола таракан торчит. На портретах предки так выцвели, что ужене по разу умерли, но по два уже,из одной в другую смерть перешли уже. Пой тоскливую песню, пой, а потом срединадевай-ка ночи носок и себя рядив человеческое. Куда ты, старик? сиди.

69стихи-I
Он в подтяжках путается, в штанинах брюк,он в поход собрался. Старик, zur ck!Он забыл английский, немец, тебе каюк. Schlecht, мой пекарь бывший, ты спёкся сам.Для бардачных подвигов и внебрачных дамне годишься, ухарь, не по годам. Он ещё платочек повяжет на шею, новдруг замрёт, устанет, и станет ему темно,тянет, тянет, утягивает на дно. Шёл, шёл дождь, я приехал к ним,чтоб присматривать, ним, ним, ним,за одним из них, аноним. Жизнь, в её завершении, хочет так,чтобы я, свидетель и ей не враг,ахнул — дескать, абсурд и мрак! Что ж, подыгрываю, пой песню, пой,но уж раз напрашивается такойвывод — делать его на кой? Leben, Бог не задумал тебя тобой.

70Владимир Гандельсман
ОДИНОЧЕСТВО В ПОКИПСИ
Какой-нибудь невзрачный бар.Бильярдная. Гоняют шар.Один из варваров в мишеньшвыряет дротик. Зимний день. По стенам хвойные венки.На сердце тоненькой тоскидрожит предпраздничный ледок.Глоток вина. Ещё глоток. Те двое — в сущности, сырьёдля человечества — сейчасзаплатят каждый за своёи выйдут, в шкуры облачась. Звезда хоккея порет чушьпо телевизору. Он мужи посвящает гол семье.Его фамилия Лемье. Тебя? Конечно, не виню.Куда он смотрит? Впрочем, пустьвсё, что начертано в меню,заучивает наизусть. В раскопах будущей братвынайдут залапанный предмет:Евангелие от Жратвы –гурманских рукописей бред.
И если расставаться, товрагами, чтобы не жалеть.Чтоб жалости не знать! Пальто!Калоши! Зонтик! Умереть!

71стихи-I
МАРИЯ МАГДАЛИНА
Вот она идёт — вся выпуклая,крашеная, а сама прямая,груди высоко несёт, как выпекла, инехотя так, искоса глядит, и пряная. Всё её захочет, даже изгородь,или столб фонарный, мы подросткамиза деревьями стоймя стоим, на исповедьпригодится похоть с мокрыми отростками. Платье к бёдрам липнет — что ни шаг её.Шепелявая старуха, шаркая,из дому напротив выйдет, шавкоювзбеленится, «сука, — шамкнет, — сука жаркая!» Много я не видел, но десятка двавидел, под её порою окнаминочью прячась, я рыдал от сладкогошёпота их, стона, счастья потного. Вот чего не помню — осуждения.Только взрослый в зависти обрушитсяна другого, потому что где не я,думает, там мерзость обнаружится. В ней любовь была. Но как-то странникуговорит: «Пойдём. Чем здесь ворочаться –лучше дома. Я люблю тебя. А раненькопоутру уйдёшь, хоть не захочется». Я не понял слов его, мол, опытуне дано любовь узнать — дано проточномувоздуху, а ты, мол, в землю вкопанане любовью: жалостью к непрочному. А потом она исчезла. Господи,да и мы на все четыре стороныразбрелись, на все четыре стороны,и ни исповеди, ни любви, ни жалости.

72Владимир Гандельсман
ДИПТИХ
1Две руки, как две реки,так ребёнка обнимают,словно бы в него впадают.Очертания легки. Лишь склонённость головынад припухлостью младенца –розовеет остров тельцав складках тёмной синевы. В детских ручках виноград,миг себя сиюминутней,два фруктовых среза — лютнизолотистых ангелят. Утро раннее двоихфлорентийское находит,виноград ещё не бродитуксусом у губ Твоих. Живописец, ты мне друг?Не отнимешь винограда? –и со дна всплывает взглядаиспытующий испуг. 2Тук-тук-тук, молоток-молоточек,чья-то белая держит платок,кровь из трёх кровоточащих точекразмотает Его, как моток, тук-тук-тук входит нехотя в мякоть,в брус зато хорошо, с вкуснотой,всё увидеть, что есть, и оплакатьпод восставшей Его высотой, чей-то профиль горит в капюшоне,под ребром, чуть колеблясь, копьёзастывает в заколотом стоне,и чернеет на бёдрах тряпьё,

73стихи-I
жизнь уходит, в себя удаляясь,и, вертясь, как в воронке, за нейисчезает, вином утоляясь,многоротое счастье людей, только что ещё конская гриваразвевалась, на солнце блестя,а теперь и она некрасива,праздник кончен, тоскует дитя.

74Владимир Гандельсман
РАСПЯТИЕ
Что ещё так может длиться,ни на чём держась, держаться?Тела кровная теплица,я хотел тебя дождаться, чтоб теперь, когда усталоты и мышцею не двинуть,мне безмерных сил досталосамого себя покинуть.

75стихи-I
ДЕРЕВО
Как дерево, стоящее поодаль,как в неподвижном дереве укортебе (твоя отвязанность — свобода ль?)читается (не слишком ли ты скор?),как почерк, что летя во весь опор, встал на дыбы, возницей остановлен,на вдохе, в закипании кровей,на поле битвы-графики ветвей,как сеть, когда, казалось бы, отловлен,но выпущен на волю ветер (вей!), как дерево, как будто это снимокизвилин Бога, дерево, во всёммолчащем потрясении своём,как замысел, который насмерть вымок,промок, пропах землёй, как птичий дом со взрывом стаи глаз, как разореньепростора, с наведённым на негостволом, как изумительное зренье,как первый и последний день творенья,когда не надо больше ничего.

76Владимир Гандельсман
***
Тридцать первого утромв комнате паркетадекабря проснуться всем нутроми увидеть, как сверкает ярко та ёлочная, увидетьсквозь ещё полумрак теней,о, пижаму фланелевую надеть,подоконник растений с тянущимся сквозь побелкурамы сквозняком зимы,радоваться позже взбитому белку,звуку с кухни, запаху невыразимо, гарь побелки между рам пою,невысокую арену света,и волной бегущей голубоюпустоту преобладанья снега, я газетой пальцы обернуног от холода в коньках,иней матовости достоверный,острые порезы лезвий тонких, о, полуденные дня длинноты,ноты, ноты, воробьи,реостат воздушной темноты,позолоты на ветвях междуусобье, канители, серебристого дождя,серпантинные спирали,птиц бумажные на ёлке тождествагрусти в будущей дали, этой оптики выпадиз реального в точкузасмотреться и с головы до пятулетучиться дурачку,

77стихи-I
лучше этого исчезновеньяв комнате декабря —только возвращенья из сегодня дня,из сегодня-распри – после жизни толчеи с совестью или виной овечьей –к запаху погасших ночьюбенгальских свечей, только возвращенья, лучше ихмедленности ничего нет,тридцать первого проснуться, в шейныхпозвонках гирлянды капли света.

78Владимир Гандельсман
ВЕЩЬ В ДВУХ ЧАСТЯХ
1 Обступим вещь как инобытие.Кто ты, недышащая?Твоё темьё,твоё темьё, меня колышущее. Шумел-камышащее. Я не пил.Всё истинное — незаконно.А ты, мой падающий, где ты был,снижающийся заоконно? Где? В Падуе? В Капелле дельАрена?Во сне Иоакима синеве льты шёл смиренно? Себя не знает вещь самаи ждёт, когда ябы выскочил весь из ума,бывыскочил, в себе светаябыстрее, чем темнеет тьма. 2 Шарфа примененье нежноеозаряет мне мозги.Город мой, зима кромешная,не видать в окне ни зги. Выйдем, шарф, укутай горло ирот мой дышащий прикрой.—Пламя воздуха прогорклоес обмороженной корой станет синевой надречною,дальним отблеском строки,в город высвободив встречнуюсмелость шарфа и руки.

79стихи-I
***
Я вотру декабрьский воздух в кожу,приучая зрение к сараю,и с подбоем розовым калошув мраморном сугробе потеряю. Всё короче дни, всё ночи дольше,неба край над фабрикой неровный,хочешь, я сейчас взволнуюсь больше,чем всегда, осознанней, верховней? Заслезит глаза гружёный светомбокс больничный и в мозгу застрянет,мамочкину шляпку сдует ветром,и она летящей шляпкой станет, выйду к леденеющему скатуи в ночи увижу дальнозоркой:медсестра пюре несёт в палатуи треску с поджаристою коркой, сладковато-бледный вкус компотас грушей, виноградом, черносливом,если хочешь, — слабость, бисер потаполднем неопрятным и сонливым, голубиный гул, вороний окрик,глухо за окном идёт газета,если хочешь, спи, смотри на коврикс городом, где кончится всё это.

80Владимир Гандельсман
ХУДОЖНИК
Анатолию Заславскому
1C Колокольной трамвай накренитсяк преступившему контуры дому.Всё в наклоне вещей коренится,в проницательной тяге к разлому. Там прозрачные люди плащамиполыхнут над асфальтовой лужей,и, сомкнувшись у них за плечами,воздух станет всей улицей уже, и прикурит в привычном продрогечеловек, на мгновенье пригодныйдар свободы от всех психологийвоспринять как художник свободный. 2Кто сказал, что мир настоящий?Да, темнело-светало,но лишь неправильностью цветущейможно поправить дело. Видел я, как вращается шина,видел дом кирпичный,их уродство было бы совершенно,если бы не мой взгляд невзрачный. Я стою на краю тротуарав декабрьском дне года,слыша песню другого хора —кривизною звука она богата. Нет в ней чувств-умилений,есть окурок, солнце, маляр в извёстке,в драматичной плоскости линийсухожилия-связки.

81стихи-I
ВОСКРЕСЕНИЕ
Это горестноедерево древесное,как крестнаявесть весною. Небо небесное,цветка цветение,пусть настигнет ясное тебя видение. Пусть ползёт в дневнойгусеница жаре,в дремоте древней,в горячей гари, в кокон сухойупрячет тело –и ни слуха ни духа.Пусть снаружи светло так, чтоб не очнутьсябыло нельзя –бабочка пророчится,двуглаза.
1991–2000 гг.

запасные книжки часть первая: чередования

83запасные книжки. часть первая: чередования
***У Ходасевича: «...мне хочется сойти с ума...» — эти слова равны большин-ству жизненных ситуаций. Простота и максимальность выражения. Как у Пастернака: «Снег идёт, снег идёт...»
***Почему что-то запоминается? Я слышу, например, несколько нелепых фраз из детства, совершенно незначительных. Почему запали именно эти клави-ши? Помню мальчика Юру, восклицающего по поводу чьей-то реплики: «Вот сморозил!» — и учительницу, усиленно хвалящую его за неожиданное и точное слово...Почему бывают мгновения, которые, кажется, запомнятся надолго, и поче-му нельзя при этом сказать близкому человеку: смотри, эта голая комната так освещена, эта железная сетка кровати, эта бутылка, которую мы только что распили в честь новоселья, эта сетка, эта бутылка, мы с тобой — я на подоконнике в пальто, ты в углу, яркая и безумная лампочка на скрученном шнуре, — так расположены, что мы запомним... Нельзя. Из боязни спуг-нуть ангела гармонии и отохотить его навсегда от своей памяти.
***Чем отличается роман от малой формы? — автором: вступая в единоборство с тем, что его явно превосходит, он вынужден менять свою жизнь.
***Когда переходишь трамвайные пути, чувствуешь, как мгновение назад тебя переехал трамвай.
***Выступление делегатов съезда. Очевидно определяющее значение речи.Речь (в чистом виде) — звук, колебания которого затухают во времени. Речь последующего реально забивает речь предыдущего, одерживая физическую победу. И ничего не происходит.
***Неподалёку девушка с кофе. За её столиком, спиной ко мне, пара — он и она то и дело удобно ссутуливаются над чашечками. Смотрю на девушку — она обводит зал пустоватым взглядом: то ли равнодушно ждёт кого-то, то ли ей просто скучно... Её соседи вскоре ушли, оставив на тарелке несколько скомканных бумажек и пирожное-трубочку. Девушка в очередной раз обвела зал своим бледным взором и спокойно переложила пирожное к себе в тарелку. И задумалась. Подошла уборщица, стала протирать её столик тряпкой...Я отвлёкся, посмотрел в окно и поймал себя на том, что мгновение назад похолодел, подглядев эту сцену. Не от страха за девушку (ведь она могла

84Владимир Гандельсман
встретиться глазами со мной и смутиться), не потому, что её действие было незаконно... Скорее, открылся нерв общей тоскливости этого дня, скольз-ившего незаметно, ровно, бесцветно, как небо между голыми деревьями садика за окном. Особенно тоскливо, потому что окно ещё и мутновато отгораживало острый осенний воздух. И вдруг бесконечному однообразию потребовалось выражение, та запредельная нота, которая прервала бы незаметный ход дня и провалила бы его в недогоняемую, бездонную про-пасть с головокружением и тошнотой. Не хотелось ни настигать, ни прод-левать этот холодок. Поэтому я вновь взглянул на девушку, её задумчивость исчезла вслед за уборщицей, и она с тем же спокойствием, с каким только что «объявила» тоску этого дня, доедала пирожное-трубочку.
***У каждого города свои подмышки.
***У Фолкнера — чёрная гармония (вроде чёрного юмора). Его упорство по достижению этой гармонии чуть ли не тупое. В том смысле, в каком может быть тупой последовательная мощь, верящая в себя, как в Бога.
***Физиология объективна. В боли нельзя усомниться. Раз болит — болит, и нет вопроса, верят ли тебе. Физиология прозы, стиха — это то, что прожито животом, то, по чему идёт читатель, как собака по следу.В этих «физиологических» точках произведение смыкается с физиологией как таковой. Толчки мысли «Толстоевского» ощутимы. Вероятно, чем боль-ше скручен страданием и болью автор и чем яснее он может их видеть, как бы последним усилием воли откачнувшись от них, — тем с большей внят-ностью он проталкивается сквозь тебя. (Известное: «Чтобы хорошо писать, страдать надо, страдать!» Достоевский — Мережковскому.)У Чехова другой физиологический атлас, более доступный или приемле-мый, как раз потому, что менее настырный.Вот в «Почте» он описывает студента после ночной осенней езды в таран-тасе, на рассвете:«...Студент сонно и хмуро поглядел на завешанные окна усадьбы, мимо кото-рых проезжала тройка. За окнами, подумал он, вероятно, спят люди самым крепким, утренним сном и не слышат почтовых звонков, не ощущают холо-да, не видят злого лица почтальона; а если и разбудит колокольчик какую-нибудь барышню, то она повернётся на другой бок, улыбнётся от избытка тепла и покоя и, поджав ноги, положив руки под щёку, заснёт ещё крепче.Поглядел студент на пруд, который блестел около усадьбы, и вспомнил о карасях и щуках, которые находят возможным жить в холодной воде...»Не случайно мысль проникает за стены усадьбы, а затем «вскрывает» и пруд — то же проявление физиологической основы (недаром и Чехов — врач).

85запасные книжки. часть первая: чередования
Это и свобода. Перо поспевает за воображением и доверяет ему. Доверчивость — следствие той самой объективной для автора «боли».Вот ещё несколько точек чеховского атласа:«И почерк у него был мечтательный, вялый, как мокрый шёлк».«В руке, которую поцеловала Кисочка, было ощущение тоски» («Огни»).«...И теперь ещё, казалось, от прежних объятий сохранилось на руках и лице ощущение шёлка и кружев — и больше ничего...» («Супруга»).«...И ногу, которую он поцеловал, она поджала под себя, как птица <...> и ей даже казалось, что она нетвёрдо ступает на ту ногу, которую он поцело-вал» («Три года»).«Но ничего не было так страшно для Якова, как варёный картофель в крови, на который он боялся наступить...» («Убийство»).Это нервные узлы произведений. Это природа автора, т. е. то, что нельзя придумать, подобно восклицанию Ивана Дмитрича из «Палаты № 6»: «Радуюсь!» Вполне «достоевское» восклицание — напрорыв из самого нутра.
***Поэт Я. выглядел так, словно коллеги, здороваясь с ним, на протяжении многих лет пожимали ему лицо.
***Говорит депутат: «Приходится много тратить времени, в том числе личного...»
***Есть жизнь, текущая лишь в снах. Через год, два, три — вдруг снится сон, продолжающий другой сон. Эти люди, эти вещи, эти ситуации есть только там. Удивительно. Проснувшись, ты вспоминаешь, что уже видел этого человека, и — со странным чувством: тоже во сне.
***Говорит соседка:«Племени в касрульке...»«Я стирала шлага, стирала на пижнаке твоём шлага... А она как было, как и есть...»«Сотрясение мазок...»
***У Фолкнера — не напряжение жизни, а напряжение чувственных точек (расположенных уникально, как и у всех прочих), которыми он восприни-мает действительность. Но использование всех точек не дало бы напряже-ния. Фолкнер интуитивно отбирает лишь самые физиологические, самые отстоящие от нормальной жизни (благодаря чему — «разность потенциа-лов»).

86Владимир Гандельсман
Вообще жизнь во всей полноте — лишена напряжения. Следует вырвать романом из неё кусок, чтобы её увидеть (конечно, уже искажённую), точ-нее — увидеть способ видения Фолкнера, расположение его извилин. Отстояние точек от нормальной жизни делает тем более привлекательным возврат к ней. В момент какого-нибудь страстного описания сказать, что «цвели глицинии» и т.д. Это раскачивание огромного маятника. Фолкнер пишет субъективный эпос. То есть скорее эпос человеческой души, чем истории. Объём изображения (кроме маятника) создаёт ещё одна вещь: постоянные забегания вперёд (по времени) и отбегания назад, с недомолвками, постепенно обрастающими «домолвками» и т.д. Чисто пространственно это представляется так: Фолкнер растыкивает свою прозу наугад (как бы) вокруг себя в объёме шара — то ближе, то дальше, то повторяя движение по тому же радиусу, но в новую точку... — пока весь объём не забит до отказа. Тогда этот ком покатился... Герой тоже движется крупно. Мисс Роза («Авессалом, Авессалом!») зами-рает у двери (за которой убитый Бон) на несколько страниц.Один взмах руки может длиться несколько лет. Человек словно бы не живёт ежедневными мелочами, но, подчиняясь Року, копит их, слагает ради взрыва единой составляющей, которая указывает — куда в действи-тельности были направлены «мелочи». Человек напряжённо ждёт, прови-дит себя между взрывами и поэтому не рассыпается, крупен и целен. Он слит волей Рока и внутренней волей, ей подчинённой.
***Из пункта А в Б в медленном трамвае можно добраться всё-таки значи-тельно быстрее, чем поспешая пешком. Но это лишь в астрономическом времени. Психологическое время — ему обратно, и реальностью является именно оно. Торопясь пешком, я спокоен (хоть и опаздываю), в трамвае я психопат (хоть и успеваю). Если бы человек жил, не ведая астрономиче-ского времени, он бы и жил неведомо сколько. Психологическое время не есть срок, нервирующий и раздражающий, предписанный, не есть навя-занная форма, а есть — содержание существа. Короче говоря: абсолютное время, возможно, и форма материи (её разрывающая), но психологическое время — несомненно, содержание.
***У Пушкина: «...вознёсся выше он главою непокорной Александрийского столпа...» «Выше» отстоит от «столпа» на эту долготу задирания головы. Ай-да Пушкин.
***Узнав, что его другу плохо, в приливе сочувствия, К. написал ему письмо, и чуть ли не сразу его охватил стыд, чуть ли не с последним словом письма. Он боялся вникнуть — почему. Так случается, когда ответ растворён в твоем

87запасные книжки. часть первая: чередования
существе и просто не сформулирован, и знаешь, что малейшим усилием ты его можешь кристаллизовать, но медлишь. И вот, накатывая, как волна... как волна, омывающая всё больший кусочек суши, ответ проступает и оста-навливает внутреннее бегство стыда. Всё ясно — письмо с неточной инто-нацией. Всего лишь? О, этого достаточно, чтобы свести счёты с жизнью.К. мучается, его не утешает, что друг, зная то же самое по себе, сделает скидку, а то и вовсе постарается не обратить на это внимания.
***Чётные числа чем-то хуже нечётных.
***Перечисления. Гоголь доводит их до необычайного. Идёт накопление более или менее скучного количества, которое взрывается новым качеством (как правило, в юмор). Лирическое отступление о дверях, о том, как какая дверь скрипит, заканчивается: «...но та, которая была в сенях, издавала какой-то <...> звук, так что <...> очень ясно, наконец, слышалось: "Батюшки, я зябну!”...»Пустой тупик диалогов, этот абсурдный юмор, вроде того колеса, которое докатится или не докатится до Москвы... — тоскливое открытие.– Я сам думаю пойти на войну; почему же я не могу идти на войну?– Вот уж и пошёл! — прерывала его Пульхерия Ивановна. — Вы не верьте ему, — говорила она, обращаясь к гостю, — где уж ему... Его первый солдат застрелит...– Что ж, — говорил Афанасий Иванович, — и я его застрелю.Хармс читал Гоголя, не так ли? Но Гоголь имел в виду не только Хармса.Аф. Ив. плачет, вспоминая жену через пять лет, и автор видит «слёзы, которые текли <...> накопляясь от едкости боли уже охладевшего сердца».Плотное платоновское проталкивание в точность.
***В школу, где я учился, привели Достоевского. Двое под руки вели мертве-ца. Труп не шёл, а как-то вываливался из их рук вперёд, а те с трудом направляли его в двери классов. С закатившимися глазами и чёрным, одновременно впалым и шишковатым лицом, Достоевский наводил на учащихся ужас — от него шарахались. Потом, однако, я понял, что у него был припадок. Я понял это, увидев его чуть позже выходящим из школы. Всё так же под руки его вели двое, но сам Достоевский шёл мёртво-спокойной походкой, лицо его было пухлым и припудренным, припадок закончился... Но это уже был труп настоящий...
***А. Белый. «Петербург».Холод. Всё сведено к нулю. Как в этом куске:

88Владимир Гандельсман
«Аполлон Аполлонович подошёл к окну;две детские головки в окнах там стоящего дома увидели против себя за стеклом там стоящего дома лицевое пятно неизвестного старичка.И головки там в окнах пропали».1-я и 4-я строки, описывающие действие в противоположных домах, имеют равное количество слов; то же происходит и по обе стороны от слов «против себя».В абсолютной симметрии сказался отец-математик сказался симметрии абсолютной. В
***Иногда с удовольствием читаешь слабые стихи. Иногда полная беспомощ-ность роднее олимпийского умения, силы и пр. Всё равно что посмотреть телевизор.
***Культура прошлого хороша тем, что не устраивает тебе семейного сканда-ла. Культуры настоящего нет. Есть сплошной скандал.
***Письма Николая Григорьевича, механика, моего сослуживца, — Гале, милиционерше, матери-одиночке, периодически охранявшей здание архи-ва, где мы работали. Николай Григорьевич был безответно в неё влюблён.Последнее письмо написано, конечно, им же, но от имени неведомого В. Лаптева.Орфография и пунктуация — Николая Григорьевича.
1.Галя! Я тебе всегда хотел только хорошего в жизни, и сейчас желаю всего хорошего, хорошо отдохнуть, набраться здоровья. Я на тебя грязь не лил, и этого не будет никогда. Как бы мне не было трудно, тяжело. Грязь идет от Чесноковой. Болтай с ней больше, она у тебя всё выпытает. Ты простая. Сейчас все люди злые и смотрят, как бы устроить зло другому. Ты мне много делала зла, а я делал и буду делать только хорошее. Ты уже перестала понимать что такое зло, что добро, не различаешь чёрное от белого. А в жизни надо различать. Неужели ты в себя потеряла веру, что никто не полюбит, никто со мной жить не будет, и я не выйду замуж. Ты говоришь будешь жить одна. Одной жить невозможно. За жизнь надо бороться, а не идти по течению жизни. Скука, жизнь убивает человека. Так делать нельзя: понравился я и идём. Даже надо выбирать друзей и подруг. С кем пове-дёшься того и наберёшься. Что говорить жизнь есть жизнь. Но, а этот поступок выходит за все пределы. Ты потеряла свою голову, потеряла рас-судок, потеряла ум. С кем ты связалась. У него жена, которую он очень хвалит, у него двое детей, которых он любит. Вот мой разговор с

89запасные книжки. часть первая: чередования
Олей-уборщицей, которая убирает твой коридор. — Оля, как ты смотришь на эти сплетни? — Да, я слыхала. Конечно, не наше дело, у каждого своя голова на плечах. — Я считаю, Галя перестала уважать себя, Галя перестала любить себя и можно сказать она не хочет жить.Оля говорит: я этого Серёжу, хоть он и более красив, я его ненавижу. Он нахальный грубый идиот. Я с ним вместе поссать не сяду. Про Галю я и верю и нет. Конечно, по его поведению и разговору можно и поверить. Я спрашиваю: наверно, Галю смутили кролики, наверно наелась кроликов. Оля отвечает: дядя Коля, от этого жадюги не дождёшься не только кроли-ка, у него соли не выпросишь, он жаден. Что заставило Галю с ним свя-заться, не пойму. Да, Галя, у меня у самого такие мысли: что тебя заставило с ним связаться? Сильно жизнь принудила. У тебя был не плохой выход. Ты говорила: дядя Коля, приходи. Я пришел поговорить. Ты меня оскор-била. Что с тобой связываться. Не добавила: я с механиком связана. Мне кажется прошло немного и всё раскрылось. Я тайну любую пронесу всю жизнь. Я не буду краснеть как рак. Большой слюнтяй твой Серёжа. Галя, я с Олей, Раей говорил, чтобы дальше нас никуда не разошлось. Думаю дальше не разойдётся. Я тебе плохого не хочу. Тебя накажет сам бог. Напиши хоть пару слов, если будешь рядом. Заходи.
2.Галю, Юлочку и маму поздравляю с праздником Нового 1984 года. Желаю всем хорошего настроения. Самого крепкого здоровья. Гале желаю в Новом году выдти замуж. Желает кусок заразы, дикий крокодил.
3.Галя! Здравствуйте. Не хотели Вас беспокоить до Нового года. Знаем, что и сейчас Вы не совсем здоровы. Извините, что адрес Ваш узнали у дежурно-го по дивизиону. Во время твоей болезни эти сволочи шептались на кухне — Байкеев, Чекмарёва, Марина, Таня-татарка, с ними Чеснокова. И сейчас эти «люди» тебя окружают. Что они ещё хотят? Устроить посмеши-ще? Или вызывают тебя на публичное оскорбление. Что нам известно: Сотсков поделился с Тишиным, Тишин с Инной, со всеми женщинами Байкеев в дружбе. Он подхватил и разнёс по всему архиву. Даже разнёс, что Николай Григорьевич тебе звонит. Николая Григорьевича мы считаем добрым, хорошим человеком. Не думаем, чтобы он делал кому-то плохое. Галя, пойми, кто тебе льстит, кто хочет хорошего. Да и ты умная женщина, всё понимаешь. Не давай этим паразитам вести себя за повод. Что было, то было, может и побаловалась. Лучше всё кончить и послать всех — и Сотскова, и Байкеева на хер. Такая жизнь до хорошего не доведёт. А если ты с ним пойдёшь — берегись. Они пытаются уволить Николая Григорьевича — дело Байкеева отомстить. Будь во всём осторожна. Извини за беспокойство.В. Лаптев

90Владимир Гандельсман
***Голос в автобусе: «Женщины выносливее мужчин по выносливости!»
***Аристократ владеет тайной (речь не о происхождении; хотя слишком часто это связано — ведь история рода, хранимая его продолжателями, посте-пенно уходит в тайну, становится таинственным припоминанием) и являет её (в искусстве, например).Разночинец знает о тайне и её провозглашает (а мог бы — разгласил).В этом суть и истоки идеологического искусства, вообще идеологии, а именно: животной, лишённой тайны, жизни. «Культура — способность удержания тайны».
***Иногда взрослый, много страдавший человек всё равно идиот.
***Стоит ли провести жизнь в вечном недовольстве собой? Если любовь — это дар, который удерживают немногие, то, по крайней мере, разум — привилегия большинства. Разум говорит просто: не убивай, не прелюбо-действуй, не кради и т.д. Жизнь в разуме — непрерывное внимание, выполнены ли его требования.И вот когда он терпит поражение, ему остается последний спасительный ход: увести своего обладателя от людей (и значит — от проявления нелюб-ви, «забыть» свою нелюбовь).Монашество может начинаться не с любви к Богу, а с нелюбви к людям. Это разумное безрадостное монашество, которое, вероятно, не выдержива-ет слишком тяжёлых испытаний, но всё же это путь героев, которым надеж-да на просветление маячит, путь, где изнурением плоти, кажется, можно потрясти и преобразовать свою духовную основу и возродить её для любви.
***Человека можно охарактеризовать коротко. Ч. попросил своего друга, летящего в другой город, передать важное пись-мо, от которого зависела карьера Ч. Получив известие об авиакатастрофе и гибели друга, Ч. подумал: «Боже! Моё письмо!» — и только потом попы-тался устыдиться этой мысли.
***У неё не тело, а полный Кранах.
***Основа писательства — трезвость. Средства достижения, однако, могут быть совершенно «пьяные».

91запасные книжки. часть первая: чередования
Очень точно применимы к этому размышления князя Мышкина перед припадком: «Что же в том, что это болезнь? — решил он наконец, — какое до того дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здо-ровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, даёт неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примире-ния и восторженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни?»
***Шарф «Айседора».
***У него такая интонация... Что бы он ни сказал, какая бы это ни была рез-кость — он никогда не обидит. Он говорит, растягивая слова, словно испы-тывает их мягкость. Вогнутой интонацией он как бы пытается снять их шершавость. Иногда мне кажется, что в нём одном жестокость выглядит как мягкая уклончивость и что только много страдающий человек облада-ет такой честной и точной приспособляемостью.
***Достоевский близок двадцатилетним. Пушкин «старше».Достоевский описывает бездну, познаёт её. Пушкин — уже знает, подразу-мевает, незачем описывать. (То самое аристократическое и разночинное сознание.)
***Нет ничего жальче и обиднее подлинного чувства, которое хочет, но не умеет себя выразить. «О как ты обидна и недаровита...»
***Этот фильм — видение режиссера. Свойства видения: его абсолютность, или абсолютная закономерность, притом что движение закона — непред-сказуемо. Просто подчиняешься ему, но сказать, в чём он состоит, — невозможно. И даже любая символическая трактовка всё более затемняет дело, связи рушатся.Но как отказаться от понимания, от расшифровки, как не убить закон? Могу я смотреть и видеть?Это видение подобно человеку, который не может никому объяснить феноменальность своей жизни — он жив, он сейчас и это. Но он отделён оболочкой, и за неё не пробиться.Это видение подобно картинам детства — горящим шарам памяти. Любая баснословность происходящего там — неудивительна, закономерна, я могу ей полностью довериться.

92Владимир Гандельсман
Это видение (как сон) со своим законом.Можно ли сказать о человеке (или о пейзаже) что-нибудь одно? Или два? Можно сказать сто, но это не лучше, чем одно. Сто рассыпется на единицы.И только видение стремит бесконечный ряд к пределу. Точнее: это тот пре-дел, который раскручивается в бесконечность человека, пейзажа и т.д.
***Бессонница. Гарем. Тугие телеса.
***Плохое государство меня грабит, чтобы надругаться, хорошее — чтобы облагодетельствовать.
***Если человеку за тридцать, а он всё ещё авангардист (модернист, концеп-туалист и пр. -ист), то это уже признак слабоумия.
***Монолог одного художника:«Живописец ежеминутно отказывается от эксплуатации приёма, им же най-денного, то есть от того, чем несомненно может угодить зрителю, то есть от таланта, по сути дела. Это приводит, как правило, к нулевому результату, и мы можем судить лишь о степени отказа художника от себя, о тех, извините, жертвах, которые он принёс... Но как об этом судить, если мы видим ничто, самого художника, слава Богу, не знаем и процесс работы от нас скрыт?Степень отказа может знать лишь он сам. Поэтому так нелепы и безответ-ственны оценки ("бездарно", "гениально" и пр). Мы проставляем их, когда ничего не понимаем, но хотим уважить себя любовью к художнику.На самом деле он к картине отношения уже не имеет. Всё, что он мог: отказаться от лёгкой добычи, — он сделал. И это чистая случайность, что работа, в которой всё — отказ, одарена чем-то, что удерживает нас рядом с ней, и художнику тут гордиться нечем».
***Автор фильма словно нарушает любую возможно-логическую версию. Не сразу, а лишь когда версия уже ветвится. Едва намечаешь ход понимания — шаг, ещё шаг, едва путь затягивает, как ты всё менее уверен, всё больше вариантов, что-то спутывается, ясности нет и, наконец, остановка. Куда идти дальше? Зачем идти, если разгадка — всего лишь развёртка объёма, лишённая жизни?
***Напечатайте эту книгу. Можете вымарать всё, что вам не нравится. Просто — всё. Книга хуже не станет.

93запасные книжки. часть первая: чередования
***Если есть зебры, почему бы не быть арбузам?
***Когда Пушкин воскликнул: «Ай да сукин кот!», закончив «Бориса Годунова», когда Блок записал: «Сегодня я ге», закончив «Двенадцать», я думаю, они испытывали одно и то же. Внутренний толчок завершения. Произошла чузнь, образовалось жидо. Эти вещи похожи в главном — в явной гармонии. Вдруг всё уравновешено и замкнуто, гоголевский «Нос» пошел гулять сам по себе...Поэтому, например, «Двенадцать» идеологи могут понимать как произведение советское или антисоветское и т.д. — лишь по причине невероятности, невозможности идеологического взгляда на поэму... («Поэзия выше нравственности». Пушкин плюс Блок — блош-кин пук.)
***В отличие от собрания, человек не состоялся.
***Обычный (талантливый) человек притворяется равным всем, хотя он нико-му не равен. Он не хочет упрёка в оригинальничанье, не хочет раздражать. Это сиюминутное, немужественное человеколюбие пошлости.Но вот гений — сплошные странности (хотя и очевидные странности — мы-то все узнали себя в нём, потому и оценили).Гений — разновидность сумасшедшего, он не соотносится с окружающим. Он жесток. Возможно, он нравственная категория.
***Человек у Достоевского — существо, которое мыслит назло. Назло себе, назло предыдущей своей мысли. Отсюда — бесконечное вкапывание себя. Это в высшей степени «умышленное» существо.Грех по Д. — поле для испытания человека, тем более удобное, что беско-нечное. Человек у него не просто грешен, но утверждает: да, да, грешен, да, да, низок, и паду ещё ниже, и буду ещё грешнее, так что уж испытаю наслаждение от своей мерзости — ведь не дам себя унизить ни раскаянием, ни вашим прощением, это было бы уже ограничением меня, некая ко мне жалость... Так вот, самоутверждаясь в грехе, человек Д-го делает поле греха растущим в прогрессии взаимно отражающихся зеркал — и, стало быть, безграничным.На другом полюсе — человек (князь Мышкин, Алёша), который в великой любви страдает за последнего преступника. «Величина» его любви (и непременно вины) пропорциональна безграничности преступления. (В чем вина? Не в том ли, что он видит преступление как преступление? То есть осмеливается хотя бы на секунду судить?)

94Владимир Гандельсман
И всё же любовь (в отличие от греха) не безгранична. Видя самоё себя, она склонна непрестанно корить себя в недостаточности. Любовь в самооцен-ке (а куда деться от разума-оценщика?) в отличие от греха не самоутверж-дается, — наоборот, видит, что ущербна в своей оглядке. В системе взаимно отражающихся зеркал она тает, а грех множится.То есть грех, поскольку он целиком в системе человеческих координат, абсолютен, а любовь, захватывающая и недосягаемую для человека область, относительна. Но если она не бесконечна, то сразу — мала.Но ни тот ни другая (грех, любовь) не свободны. Свобода — это спонтан-ность, когда проблемы выбора нет, есть — совершаемый выбор. Человек же страдающий (грешный, любящий ли) всегда мыслит, всегда в проблеме, всегда сомневается, — и таков он у Д-го.
Поэтические открытия в слове. Берётся длиннейший, порой неуклюжий разбег каким-нибудь монологом, и вдруг выборматывается или выкрики-вается весь характер или всё состояние разом:«Будьте уверены, благодушнейший, искреннейший и благороднейший князь, — вскричал Лебедев в решительном вдохновении, — будьте увере-ны, что сие умрёт в моём благороднейшем сердце! Тихими стопами-с, вме-сте! Тихими стопами-с, вместе!..»Характерно и обстоятельство «в решительном вдохновении». Герой Д-го то и дело взвинчивается до «решительного вдохновения», иначе он автору, в сущности, неинтересен.
***Из размышлений критика: ирония бальзамирует тело стиха.
***Торжества, посвящённые 100-летию А.А. Ахматовой.Торжествующих представляют три лагеря:1 — государственно торжествующие в Колонном зале (или где там ещё);2 — хладнокровные литературоведы с открытиями;3 — торжествующие с оговорками: очень уж боятся они торжеств, — мол, Ахматовой бы это не понравилось;О. по поводу моей градации заметил: «Третьи и являют суть интеллигента с его отвратительной рефлексией. Боязнь пошлости, не способная пошло-сти избежать».
***Некто, пьющий пиво воскресным утром... И если над краешком кружки (глоток — вниз, взгляд — вверх) — бледный, непроспавшийся пейзаж новостроек с самолётом, набирающим высоту, то «рухнул бы он, что ли» — непременная мысль Н.
***Можно бы написать новое стихотворение, но я не знаю слов.

95запасные книжки. часть первая: чередования
***Есть простые числа, сложение которых вызывает некоторое затруднение. Например, 8 и 6. Всякий раз совершенно неочевидно, что это 14. Вообще все три числа выглядят неубедительно.
***Тайна соразмерности «Крошки Цахес» заключена в том, что «крошка» как пикантная фантазия не вызывает отвращения. Нам доступно то внутрен-нее душевное напряжение Гофмана, возникшее из двух нервно-улыбчивых, уравновешенных сил: я делаю крошку отвратительным и знаю, что он таковым не станет. Я заманиваю вас в социальную сатиру, допустим, но тут же одурачиваю податливую, наивную, вашу праведную душу.(Это ли романтизм? — разоблачение любой собственной идеи, так что только тоненькие ножки её торчат из серебряного горшка...)Гармония — это такой тайный объём произведения, в котором время сво-бодно играет намерением автора, выворачивая его порой наизнанку (без ущерба для цельности). Мы не можем в точности вычислить этот объём, но можем уследить, в какие дыры он утекает.
***Существует лишняя гениальность. Например, А. Белый.
***Культура умирает не вообще, а отдельно. Подъём бывает не всюду, а в душе.
***Вынужденная любовь к Хлебникову.
***Гоголь в «Старосветских помещиках» пишет: «...И мысли в нём не броди-ли, но исчезали».В Аф. Ив. исчезало то, что не успевало появиться. Взято удивительное психофизическое состояние. Причём уловлено оно лингвистически, поми-мо Гоголя. Здесь автор, притянутый выпрыгнувшим из него словом, и сам поднимается выше, пытаясь его настичь. То есть слово не только сокраща-ет расстояние до смысла, не только опережает мысль, но и находит другой смысл, новый и неожиданный для автора. Это природа наращения вдох-новения.
***Вся бухгалтерия уехала на похороны. Умер Карлуша — человек, которого неделю назад я видел. Ожидая кассира, я вспомнил живую и наглую кри-визну карлушиных ног — они совершенно не были готовы к смерти. Я ждал на катке, ещё не залитом и покрытом первым мокрым снегом.

96Владимир Гандельсман
Приехал автобус, из него вышли бледные женщины и, расположившись полукругом, принялись дышать. Их мутило после похорон и долгого автобуса. И всё же не настолько, чтобы не обсудить и не высказать мне-ние. Доносились обрывки фраз: «...это его сестра... а вы видели... да... совсем плоха» и т. д. Затем они пошли в небольшой двухэтажный дом, где размещалась бухгалтерия. Я пошёл следом. Открылось окошко кассы, и в нём появилась мордочка молодой чернобурой лисички с двумя-тремя золотыми зубками. Лисичка на похороны не ездила. Сейчас она искала ведомость с моей фамилией. Ко мне подошла бухгалтер, и мы о чём-то заговорили. Лисичка высунула мордочку, подала ведомость и весело под-мигнула бухгалтеру — женщине немолодой, с довольно измученным заплаканным лицом: «Как вы там... насчёт этого дела?» — «Насчёт чего?» — «По скольку скидываетесь? Возьмите и за меня». — «А-а-а... Вы тоже?» — «Я завсегда. Я люблю это дело», — и кассир показала пальчи-ком, что она завсегда любит выпить. Бухгалтер, кажется, была смущена, что её втягивают в такую легкомысленную болтовню, и растерянно и вяло что-то ответила.
***«Здесь всё меня переживёт...» (Ахматова) — стихи из глубокого и спокой-ного раздумья. Стихи с осанкой. Как правило, у стихов походка.
***Жизнь можно не заметить — провести всю в кайфе, или в хамстве, или в идее. Что же истинное? Остановка, ничто.
***Жизнь как игра существует в злодействе, пошлости и т.д. Человек говорит пошлости, как бы пародируя пошляков. На протяжении всей жизни он может не забывать о том, что пародирует. А может забыть.Злодейство — это гримасы заигравшихся перед зеркалом детей.В магазин, где я работаю грузчиком, приходят люди с чёрного хода. Как хозяева похожи на своих собак, так эти люди похожи на ветчину, сосиски и пр. — они уносят в пухлых руках тяжёлые сумки. Но всю эту сложную, потную жизнь они ведут, я уверен, не из любви к нежному мясу. Они, как дети, жаждут похвалы своих близких, и удивления, и благодарности за их всемогущество.
***Заладили: трагический поэт, трагический поэт... А какой же ещё — коми-ческий, что ли?
***Похвалы детям так расточительны — ведь ребёнок взрослому не соперник.

97запасные книжки. часть первая: чередования
***Осень с Гофманом
Ветер разверзнет карманную пропасть,к фалдам пришьёт фатоватую лопасть,то ли жуки золотистые, то листайкой зелёной летят си бемоли,
ах, за ведьмой, ведьмой прахом со скамейкиполетели, поблестели блики-змейки,
корчатся, торкаясь, бесы строки,мелкие заболтни, выклики, зги,
вкупе, в кукольные землиулетают фабианы-павианы и ансельмы,разве нам их удержать, споткнёшься с грохотоми рассыпешься на ножки грустным гофманом.
***Мысль о смерти — есть духовный онанизм.
***Рассуждение человека с вогнутой интонацией в связи с философией хуаянь:«Истинное бытие, незыблемое (Бог), противоположное ирреальному бытию (картины, в картине), через которое оно проявляется и обнаружи-вает себя. (Нереальное бытие — это окружающий нас предметный мир, в частности — картина.) Картина тем "лучше", чем явственней "дыры", в которых сквозит незыблемое. Чем явственнее её (картины) условность.Истинное бытие и картина друг в друге нуждаются, друг без друга не суще-ствуют. Истинному бытию негде больше проявиться — только здесь.Истина ("ли") — основа и сущность всех вещей, это мир, лежащий в осно-ве всех явлений. Это пустота. Пустота существует в виде явлений, не ото-ждествляется с ними, но и не отличается от них. Явление внешнего мира — это формы (картины) — "ши". Пустота не существует сама по себе. Её существование возможно только через определённую форму. Поэтому у неё нет собственных внешних свойств. Она как бы облачается в форму. Пустота и форма неотделимы друг от друга.Допустим: краски — "ли", изображённый лес — "ши"; краски не имеют своей собственной постоянной формы; благодаря работе мастера из них получается изображённый лес; но никакого леса (реального) перед нами нет; если что здесь и есть, то — краски. Поэтому изображение леса — пустота. То есть пустота не имеет собственной формы, а может существо-вать лишь в виде других форм. Вот почему она не мешает иллюзорному существованию вещей.Почему картина необходима? Потому что она объявляет иллюзорность. Она — вдвойне нереальный лес, и поэтому — вдвойне проявленная пусто-

98Владимир Гандельсман
та (суть, Бог, "ли"). Картина всей своей условностью как бы оттеняет незы-блемое. Картина — дыра в незыблемое, в то, что смыть невозможно, ибо то — не имеет формы, то — пустота».
***Как мне надоели мои зубы...
***Вроде бы нет ничего хуже человека искусства... Всё же есть. Это человек одного искусства, рассуждающий о другом.
***Любимая женщина просто меньше раздражает.
***Как неумело Л. Толстой скрывает себя, свой внутренний спор в диалоге Пьера и Андрея в XI и XII главах (2-й том, 2-я часть). Это он сам, это столь очевидно, что плеск парома и прочие внешние реалии, с хорошей сораз-мерностью вплетённые в повествование, не могут снять этого ощущения. Есть такого рода произведения, в которых мастерство зависит от правдопо-добного распределения себя между своими героями. Однако Достоевский или Музиль, возможно, и не пытаются «распределять». Им не устоять под напором «своего», и всё рушится, и они видят это, но ничего поделать не могут. Они интеллектуально страстны, прежде всего — страстны. Толстой же прежде всего умён, хотя и его ума не хватает: слишком сложна задача.
***«Вакхическая песня» — это кубок.
Что смолкнул веселия глас?Раздайтесь, вакхальны припевы!
Да здравствуют юные девыИ юные жёны, любившие нас!
Полнее стакан наливайте!На звонкое дноВ густое вино
Заветные кольца бросайте!Подымем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеетПред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеетПред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

99запасные книжки. часть первая: чередования
Графика очевидна, хотя в таком виде стихотворение, насколько мне извест-но, не печатают. Очевидность этой формы есть уже в ритме, в звуке...В каждой строке Пушкин находит новое натяжение, как бы выдёргивая обновление всей вещи.Графика-стихотворение соответствует графике-движению пьющего из кубка, а звук — «материалу», который он обозначает, — «материалу» вина, чаши.Вот открытая чаша — она «открыта» вопросом: «Что смолкнул веселия глас?» — и мягкое «л» есть влажный блеск вина, которое сейчас польётся через это «эль» и узкие горлышки ударных «звонких» гласных — ай, аль, е, е, ю, е, и, е, — и к строке «полнее стакан наливайте» чаша наполнена.Остаётся с помощью пятикратного «о» опустить на дно кольца: «На звонкое дно в густое вино...»«Подымем стаканы, содвинем их разом! Да здравствуют музы, да здравству-ет разум!» — это пауза в строении кубка (и перед опрокидыванием его), это утолщение, кольцевидная перемычка, это сгущение звука одновременно: ударные гласные «глохнут» (ы, а, и, а, а, у, а, а) — кубок поднят.Затем в два синтаксических приёма кубок опрокинут и возвращён столу («Как эта лампада бледнеет...» — подъём и «так ложная мудрость...» — спуск).«Да здравствует солнце, да скроется тьма!» — кубок жёстко поставлен на жёсткое основание. Жест-стихотворение завершён.Этот случай графически примитивен, его графика — «говорящая». Чаще существует абстрактная графика, взаимосвязанное натяжение линий сти-хотворения, по которым, я уверен, можно судить о его жизнеспособности (интуитивно, без алгебраических подсчётов).Допустим:
Не властны мы в самих себеи, в молодые наши лета,даём поспешные обеты,смешные, может быть, всевидящей судьбе.
И во всём стихотворении то же. У Баратынского графика явна. (Графика — явление зримого ритма. Чтобы ритм был видим, он должен иногда нару-шаться.)
***После длительного трудового дня я сажусь в такси, закуриваю и еду по тихому вечернему городу. О каком смысле жизни вы говорите?
***История грехопадения (как бы ни была ужасающа) не удивит. Она не может быть новой. Она не предмет искусства. Нов только отблеск расста-новки вещей.
***Соседка: «Они не имеют никакого полного права!»

100Владимир Гандельсман
***Мало того что женщине надо говорить вдохновенные пошлости, потом её раздевать, потом самому раздеваться, потом с ней ложиться — вот тут-то, казалось бы, и отдохни — куда там! — надо ещё совершить множество непростых движений... Не знаю... Я и так на трёх работах... Вообще-то секс — это физиологический юмор (вроде анекдота: слегка нервное ожида-ние неизбежной развязки посредством хохотка-хоботка), но занимающие-ся им до такой степени не понимают этого, что стонут и серьёзно изнывают под его бременем... Если же это не юмор, то, извините, — работа с приме-сью необоснованного зверства и сомнительного удовольствия, ибо — отни-мающего последние силы... Нет, нет, даже не уговаривайте.
***Почему мне всё время предлагают жить в будущем, к тому же — недалёком?
***Если духовной жаждою не томим, то следует со всей искренностью пре-даться деньгам. Большинство же, исчерпав в молодости духовный запас и чувствуя это, — однако, медлит, колеблется, стыдится. Напрасные плебей-ские сомнения. Всё-таки был бы выигрыш в истинности самоощущения.
***Я нахожусь всё время там, где другие умерли бы от счастья.
***В. Ходасевич:
Утро (1916)
Нет, больше не могу смотреть яТуда, в окно!О это горькое предсмертье –К чему оно?
Во всём одно звучит: «РазлукеТы обречён!»Как нежно в нашем переулкеЖелтеет клён!
Ни голоса вокруг, ни стука,Всё та же даль...А всё-таки порою жутко,Порою — жаль.
Вечер (1922)
Под ногами скользь и хруст.Ветер дунул, снег пошёл.Боже мой, какая грусть!Господи, какая боль!
Тяжек Твой подлунный мир,Да и Ты немилосерд,И к чему такая ширь,Если есть на свете смерть?
И никто не объяснит,Отчего на склоне летХочется ещё бродить,Верить, коченеть и петь.
Чтению некоторых стихов Ходасевича сопутствует состояние, о котором он сказал:

101запасные книжки. часть первая: чередования
«Так бывает почему-то: / Ночью, чуть забрезжут сны — / Сердце словно вдруг откуда-то / Упадает с вышины».Или:«Только ощущеньем кручи / Ты ещё трепещешь вся — / Лёгкая моя, паду-чая, / Милая душа моя».В его стихах есть этот взмах, испуг, замирание — непредвиденная ступень-ка на уже, казалось бы, ровной площадке лестничного марша.Стихотворение «Вечер» («Тяжёлая лира»).Лёгкая неточность рифмы: два последних слова двух последних строк каж-дого четверостишия заканчиваются мягким знаком. Постоянство этой неточности соблюдено с уверенным мастерством. «Падая», оступаясь в мягкий знак, дыхание замирает; лёгкий сдвиг, едва заметное несоответ-ствие рифмы, словно намёк на дисгармонию смертного сердца и долгого подлунного мира, приоткрывает неожиданно новую даль стихотворения — «Боже мой, какая грусть!/ Господи, какая боль!» — заставляет изображение поколебаться, без ущерба, впрочем, для чёткости. Так меняет положение предмет, когда смотришь на него, прикрывая то один глаз, то другой. Эта «мягкость» мягкого знака вполне смысловая, противостоящая непреклон-ности мира, судьбы. Жёстко звучит: «Тяжек Твой подлунный мир, / Да и Ты немилосерд» — подчёркнутая жёсткость двух согласных подряд.«О вещая душа моя! / О, сердце, полное тревоги, / О, как ты бьёшься на пороге / Как бы двойного бытия!..»Не случайно и время дня — вечер, время сумерек, перехода. Или — «Утро» («Путём зерна»).Тоже три четверостишия и то же противостояние: «Во всём одно звучит: «Разлуке / Ты обречён!» / Как нежно в нашем переулке / Желтеет клён».Техника исполнения напоминает «Вечер». Рифма и здесь старательно выверена, с тем же постоянством лёгкой неточности в нечётных строках.Порядок последних букв в рифмующихся строках:
1-е четверостишие 2-е 3-е
Т, Р, Е Л, У, К Т, У, К Р, Т, Е У, Л, К У, Т, К
Один из винтиков механизма, который должен выразить: «А всё-таки порою жутко...» — именно этот перескок, запрыгиванье одной буквы за другую; в этом рациональном механизме есть какая-то мистика, хотя само восприятие интуитивно. В этом простом опыте я хочу сопоставить слово с клавишей, которая способна заставить не только зазвучать инструмент (не инструмент-стихотворение — он само собой зазвучит, — а инструмент-восприятие), но и, скажем, сдвинуть его с места. Вполне реально передви-нуть, что, примерно, соответствовало бы мистике, сопутствующей механи-ческому, рационально-рассчитанному перепрыгиванью буквы. Будем помнить при этом, что до конца «специально» так не написать. Что точно выверенное правило поддержано стихией, «подсказывающей», как не

102Владимир Гандельсман
выпасть из правила. Этой стихии нравится порядок, потому что ей проще было бы ему не следовать. Ей нравится сложная задача своего усмирения. Поэт бережёт механизм рифмы, найденной стихийно, на протяжении уже всего стихотворения, наивно полагая одолеть хаос этой конструкцией-гармонией («...душа в заветной лире/ Мой прах переживёт и тленья убе-жит...»)
Так бывает почему-то:Ночью, чуть забрезжут сны –Сердце словно вдруг откуда-тоУпадает с вышины.Ах! — и я в постели. ТолькоСердце бьётся невпопад.В полутьме ночного столикаСмутно смотрит циферблат.Только ощущеньем кручиТы ещё трепещешь вся –Лёгкая моя, падучая,Милая душа моя!
Лишняя гласная в рифмующихся нечётных строках — это и есть «ах», «ощу-щенье кручи».Разве у Тютчева в стихотворении «Как над горячею золой...» буквально не вспыхивает последняя строка двумя гласными: «О небо, если бы хоть раз / Сей пламень развился по воле, / И, не томясь, не мучась доле, / Я просиял бы — и погас!»?
Р. S.У господина Н.:
Вечер дымчат и долог:я с мольбою стою,молодой энтомолог,перед жимолостью.
О как хочется, чтобытам, в цветах, вдруг возник,запуская в них хобот,райский сумеречник.
Содроганье — и вот он.Я по ангелу бью,и уж демон замотанв сетку дымчатую.

103запасные книжки. часть первая: чередования
Не зря ему мерещился Кончеев, не зря, — он сам над своей безупречной рациональностью проставлял слегка неточное ударение (см. чётные стро-ки) и убивал двух зайцев: зайца изящества и некоего метафизического зайца, о котором никогда, впрочем, нельзя сказать определённо — был ли он убит.
***Барды — это раздел анатомии.
***Разговор сына с матерью:– Одолжи мне 300 рублей.– Хорошо. Но ты знаешь, что это за деньги?– Нет.– Это на случай, если с нами (она имеет в виду мужа) что-нибудь случится...Такой эвфемизм... Боязнь прямого слова, кстати, доказывает, что Слово есть, что оно может быть страшным (в религиозном смысле — Страх Божий). Именно оголтелые атеисты в наибольшей степени избегают пря-мого слова.
***Иллюзорность так называемой реальности вне сомнений, когда видишь, как она испаряется на огне более сильной «реальности». Боль, скажем, «реальнее» наслаждения: она легко его подавляет.(Духовные учителя, умирающие в физических муках и призывающие уче-ников быть свидетелями их спокойствия, указывают на выход из этого тупика. Печально, что выход из него является одновременно порогом без-молвия.)Человек как бы всё время своим присутствием обесценивает реальность, и она исчезает на его глазах.Озеро, в котором отражено наше лицо, может стать озером в чистом виде только если мы в нём не отражаемся. (Эхо свидетельствует в большей сте-пени о нашем голосе, чем о преграде.) Воды, из которых мы вышли, смы-каются за нашей спиной и, сомкнувшись, воплощают то, что — как мы самонадеянно полагали — нам принадлежало в полной мере. На самом же деле они воплощают то, чем обладают только они, и отныне взаимное наше безмолвие — всего лишь последняя вспыхнувшая и недоступная — как это ни парадоксально — реальность. Одним отражением стало меньше. (Это своего рода пробуждение в обратном порядке, когда сон, схваченный, каза-лось бы, за хвост, исчезает без следа.)Всякий умерший оставляет нам большую реальность, чем она была до его смерти. И чувство утраты — есть, по сути дела, обострённое чувство обре-тения реальности, которая, сомкнувшись, становится как бы тяжелее; потому и утрата — тяжела.

104Владимир Гандельсман
***Создатели литературно-скандальных изданий и сообществ в годы застоя говорят о причинах, побудивших их топнуть ножкой: жажда свободы твор-чества и прочие положительные «ахи»... Но ни один не говорит о тщесла-вии — несомненно главном, что отличает борцов от искусства.
***Современные писатели пишут с возрастом всё хуже. Дело в несвободе про-фессионала. Литература не может быть профессией.
***В прозе Пушкина нет ничего. Точнее, легче говорить о том, чего она лише-на, чем наоборот. Она лишена акцентов. Говоря современным языком — в чём идея? Идеи нет. Аристократическое отсутствие настаиваний на чём бы то ни было. Всё важно и равно, но поскольку равно, то вроде и не важно. Сам рассказ устраняет себя на месте преступления. Раз ничего нет, то мно-гое вмещает и менее всего раздражителен. Проза без претензии поглотить собой, стать главной и незаменимой. Всё это сопровождает какая-то отсут-ствующая интонация, к которой может приблизиться любой, — она нигде не отталкивает. Иначе говоря, эта проза лишена интонационного подогре-ва, который с таким успехом делает произведение приторным. В «Повестях Белкина», скажем, последнее снятие акцентов предусмотрено вручением повествования Белкину, а его характеристика отдана третьему лицу... Только круги по воде... Отсутствие задачи, идеи, всего, что делает из рассказа целе-направленное чудовище, — особенно явно в пушкинских отрывках, неза-конченных (или считающихся таковыми) произведениях. Таким образом, эта проза неуязвима, почти как природа... Но от природы она далека. На полюсе, противоположном «отсутствию», — прихотливый сюжет-сказка, в него ушла та заинтересованность в жизни, которая с простодушным юмо-ром позволяет находить в ней игровые связи, закручивает сюжет. Иначе, без этого напряжения (не трагического, как у Фолкнера или Достоевского, а игрового, как иногда ещё у Набокова, правда, не простодушного, в отли-чие от Пушкина), всё бы просто рассыпалось. И мы оказываемся на грани-це между игрой по изощрённым правилам и жизнью без правил, и то и дело видим, как игра-игла мгновенными стежками перебегает границу и попа-дает в «жизнь без правил», попадает иногда точней самой жизни, и тут же, понимая, что пересерьёзничала, возвращается восвояси... Либо наоборот — «жизнь без правил», распадающаяся на запахи, звуки, цвета, — равнодуш-ная, — вдруг оказывается игрой по самым изысканным правилам, оказыва-ется юмором и чуть ли не издевательством над собственной серьёзностью... Но и она перебегает границу обратно, к себе. Эта вибрация работает непре-рывно, не позволяя отдать предпочтение чему-нибудь одному; она вибра-ция такого множества, которое сливается в единое.Возвращаясь к снятию акцентов: «Томский произведён в ротмистры и женится на княжне Полине» — последняя фраза «Пиковой дамы». При

105запасные книжки. часть первая: чередования
чём здесь Томский и тем более княжна Полина? Что прикажете делать читателю? За этой «доводкой до ничего» уже мерещится пародия в духе Хармса... Снятие акцентов предусматривают откровенно «лёгкие» эпигра-фы перед главками. Внутри глав — то же самое. «...Потом покатилась навзничь <...> и осталась недвижима. — Перестаньте ребячиться, — сказал Германн, взяв её руку...» — он заявляет это после того, как 87-летняя ста-руха вываливается из кресла. Не говоря уже о том, что, когда Германн через несколько часов возвращается в комнату, — «мёртвая старуха сидела, окаменев»(?).Эти элементы игры (сам эпиграф — нащупыванье связи с другой, в сущ-ности, может быть, чуждой ситуацией; автор, берущий эпиграф, выступает в роли игрока-сводни, не всегда зная, чем это сочетание закончится, но он, вероятно, надеется, что на его детище падёт новый отблеск, неожидан-ный и живой), эти элементы игры перемежаются с деталями той распада-ющейся, никакой жизни, деталями, которые берутся авторами с разной степенью чувственности (у Пруста, например, — с крайней, почти болез-ненной. Видимо, в этих крайних «чувственностях» можно проследить ту образующуюся, внезапную напряжённость, которая начинает жить в игро-вом поле).У Пушкина читаем в описании спальни: «Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, с сошедшей позолотой, стояли в печаль-ной симметрии около стен, обитых китайскими обоями». Эта «печальная симметрия», являясь чувственно-точным наблюдением, — есть симметрия и, таким образом, нечто расставленное по закону игры.У Пушкина это, конечно, едва уловимые переходы, без нажима. Не самодовольно-разросшаяся, но спокойная и точная чувственность прозы Пушкина и грациозно-скромная сюжетная игра как бы содержат в себе, как в зародыше, последующие (известные нам) возможности. Условно говоря, Достоевский из «Пиковой дамы» сделал бы «Игрока» и «Преступление и наказание», Толстой не остановился бы на мимоходом сказанном в той же «Пиковой даме»: «Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место» и т. д.Итак, начав эту запись со слов «в прозе Пушкина нет ничего», можно закончить её словами: в прозе Пушкина есть всё.
***Обнажённая, но дура.
***Какие бы отношения ни были, их не следует продолжать.
***Если, скажем, Дантесу было всё равно, в кого целиться, то нас не должно утешать последовавшее затем раскаяние (в случае, если он понял, «на что

106Владимир Гандельсман
он руку поднимал»), что «есть Божий суд» и т. д. Разумнее помнить, что ему и продолжало быть всё равно, и до сих пор всё равно, что никакой распла-ты вообще может не быть.
***Печальный опыт чтения своих стихов перед аудиторией. Они не меняют мира. Явное ощущение, что их может и не быть. И если они имеют значе-ние только для тебя, когда какой-то мгновенной дрожью, как сегодня, ты возрождён из мёртвых, — то ещё стыдней, ещё печальней. Хочешь ведь много большего.Причём изменение мира ты понимаешь как некое благорасположение к тебе.Это смешно. Мир должен одобрить, не иначе. А ему плевать.
***Когда писателю не о чем писать, он становится гуманистом.
***– Я переступлю через труп жены дочери я дочь люблю не в этом дело я дал ей что мог занимался математикой слышишь она у меня в четыре года счи-тала писала и вся эта херня ты согласен со мной жена дело другое я с ней развёлся года полтора нас никто не слышит я не хочу женился-развёлся кому какое дело верно ведь ну и теперь живём мы вместе тёща подзуживает жена возражать не будет уезжай на все четыре стороны но пять тысяч слы-шишь я согласен две у меня есть и ещё будет не в этом дело я для себя решил знаешь что деньги мой лучший друг я их своим горбом заработал летом канавы рыл там болото не могу передать теперь я хочу уехать ну кто у меня мать в Житомире хорошая женщина тронуться никуда не может каждый день к брату в больницу ездит за 16 километров а попробуй-ка в автобус сесть да трястись в духоте брат у меня шизофреник почти всё время в боль-нице так что мать исключительная женщина редкая просто отец умер это тоже история на поезд билет не достать я с телеграммой и к начальнику и туда и сюда отец правда был тёмный человек мать бил и так далее когда мы подросли конечно уже не давали а перед смертью говорит Поля мать так зовут понимаешь ли мы из комнаты вышли я вдруг слышу Поля кто сказал никто к отцу вхожу он уже всё интересное ощущение подожди я тебе рас-скажу я помогал отца переносил и всё это делал приехал когда обратно слышишь жена ко мне полезла в постели ну захотелось ей и вот я её обни-маю и чувствую что это тело отца я только что его сутки назад переносил и не могу ничего никак не избавиться отец и всё тут короче говоря мне сорок пять лет хочется немного пожить год два я тебе больше скажу я не жил ещё и если не уеду пусть в последний день жизни подышать чтобы солнце солн-це кстати очень полезно фрукты поесть в общем я буду считать что так и не жил.

107запасные книжки. часть первая: чередования
***Если отвлечься, то всё нормально.
***Искусство, слава Богу, позволяет нам делать вид, что его нет.
***Фигуру высшего пилотажа выполняет Л. Толстой в «Отце Сергие».Касатский уходит в монастырь, узнав накануне свадьбы, что его невеста, красавица, фрейлина, была любовницей государя. Они навсегда расстают-ся, впоследствии она выходит замуж, затем рассказывается долгое отшель-ничество отца Сергия... Дело идёт к концу, но переферийным чувством мы знаем, что это не всё, что наше ожидание вполне не оправдалось, история гармонически не замкнулась. Мы ждём, но, пожалуй, не расшифровываем, чего именно ждём, хотя догадка и мерцает. И тогда Толстой, всё про нас зная, сообщает: «Один раз он (отец Сергий) шёл с двумя старушками и солдатом. Барин с барыней на шарабане, запряжённом рысаком <...> оста-новили их». Этой встречи — отца Сергия с бывшей возлюбленной — как раз и не доставало для полного счастья. Однако оказывается, что это не она; во всяком случае, неизвестно кто. Таким образом, Толстой даёт понять, что мерцавший нам ход им разгадан, но подсказку этого хода он делает косвен-но, совершая ход другой, — оставляя нас в некоторой напряжённой точке сознательно обойдённого и слишком доступного совершенства.
***В осаждённой крепости: «Как вам нравятся окружающие?»
***Например:
После полуночи сердце воруетпрямо из рук запрещённую тишь,тихо живёт, хорошо озорует –любишь-не любишь — ни с чем не сравнишь.
Любишь-не любишь, поймёшь-не поймаешь...Так почему ж как подкидыш дрожишь?После полуночи сердце пирует,взяв на прикус серебристую мышь.
Одно из самых понятных стихотворений Мандельштама. Понятных на уровне жеста, дыхания, само собой — интонации и смысла. На наших гла-зах слово срывается с губ и свободно проборматывает совершенно опреде-лённое. Средства при этом бывают и тёмные, и невнятные, и т. д.

108Владимир Гандельсман
Пухловощёкий редактор, конечно, и здесь спросит: как это «сердце вору-ет»? из чьих рук? почему тишь запрещённая? как украсть из рук тишь? что поймёшь? чего не поймаешь? а «взяв на прикус серебристую мышь»? («племя пушкиноведов»!)Поэзия М-ма освоила речь, опережающую разум. «Быть может, прежде губ уже родился шёпот...» Это была бы речь сумасшедшего, если бы не поэта. «Безумие» не одолевает её, наоборот, открывает новые ресурсы, сплошь — неожиданные. «Мастерица виноватых взоров, маленьких держательница плеч...» — разве может так сказать «нормальный» человек? Такие слова не придумываются. Они — насквозь — природа М-ма. В них уже полная под-готовленность его к «безумию». Он может, дав ему волю, тем не менее не опасаться — всё послужит усилению речи. Она станет ещё сокровеннее, невнятнее, потому что — опустится на дно (не случайно в этой же строфе — «утопленница-речь»), но и одновременно всё стихотворение станет ближе к истине, к абсолютной ясности, к невыразимому. Кажется, нельзя не полюбить стихотворение, с которого я начал...Мандельштам подготовлен к «безумной» речи по своей природе. Но и — прозой конца XIX века. Например, опытом Достоевского. В «Двойнике» можно найти целые страницы (особенно в речи героев) бессмысленного физиологического лепета, какой-то мозговой дрожи о самом главном. Я не говорю о прямом влиянии — лишь степень использования языка, степень приближения его к своей природе — это и степень свободы и доверия языку... Хотя прямее влияния не придумаешь...(Кстати, у Достоевского читаем: «...жизнёночек мой...» — это пишет Варваре Макар Девушкин; у Мандельштама: «...жизняночка и умиран-ка...» — см. «О, бабочка, о мусульманка...»)
***Иногда хочется дать интервью.
***Детство, болезнь, но чуть-чуть, на четверть — болен, на три четверти — симуляция. Вызван врач, и ты лежишь в одиночестве, отягощённом ожида-нием, волнением, прислушиваясь к хлопкам дверей парадной.Наконец приход врача, довольно нахальное залезание ложечкой в рот (а-а, а-а-а), рецепт (три раза в день, белая бумажка), пока ты лежишь уже полу-спокойно и полуосвобождённо, и — уход.Уход врача, первые минуты после его ухода — это и есть свобода в чистом виде, свобода и радость без хрестоматийно-философской примеси — что с собой делать?..Восстановить в памяти один такой день болезни с постепенно наползающи-ми сумерками, с приближением того часа, когда приходят с работы родите-ли, и их приход сопровождается запахом холодного воздуха (особенно от шинели отца)... Со всеми тонкими переходами... Но есть чуть-чуть...

109запасные книжки. часть первая: чередования
Перед сном встряхиваешь простыню — её надо очистить от булочных кро-шек (обедал в постели), и ложишься на обновлённую и гладкую.Через несколько дней, когда ты «выходишь в люди», не можешь отделать-ся от тишины, в которой жил. Слух некоторое время ватный, и действую-щие лица вокруг тебя сначала совершают пантомиму, лишь затем доносит-ся звук. От всего этого голове делается горячо, и ты быстро устаёшь, и тебя отпускают с последнего урока...На этих сгибах жизнь слезоточива и памятлива.
***Думать можно только о чём-то другом.
***Сейчас некоторые деятели культуры, бывшие в подполье в годы «застоя», рассказывают не без самодовольства: мол, спивался — имея в виду, что талант его не был востребован, не то что сейчас, мол. Невольно думаешь: нет, уж лучше бы ты спивался.
***А. говорит, что Платонова читаешь, умышленно близко не подпуская. Платонов пишет сокрушительную прозу.
***«В поэзии важно только исполняющее понимание — отнюдь не пассив-ное, не воспроизводящее и не пересказывающее <...>Смысловые волны-сигналы исчезают, исполнив свою работу: чем они сильнее, тем уступчивее, тем менее склонны задерживаться.Иначе неизбежен долбёж, вколачиванье готовых гвоздей, именуемых культурно-поэтическими образами» (О. Мандельштам. «Разговор о Данте»).Именно такое ощущение: силы и точности волн-сигналов и их мгновен-ной летучести — при чтении Набокова. К тому же — «Никакого Александра Ивановича и не было» («Защита Лужина»), герой «Подвига» уходит постепенно в картину, висящую над его детской кроваткой (да так в конце и исчезает, словно бы и его не было — эфемерный, бесплотный, хотя по ходу дела наделенный намеренной плотью — какой-нибудь пры-щик на подбородке, запломбированный зуб — излюбленные упомина-ния Н.) и т. д. и т. п.То есть летучесть этой прозы осознана самим автором вполне. Искусство — игра, говорит он, я вас, конечно, заставлю поверить, что всё плоть и явь (дело техники), но — ничего нет, всё — проза, слова.Набоков, кажется, выжимает из своего атеизма всё, что можно выжать. Всю непрочную красоту, данную пяти органам чувств. А в результате ключей в кармане не оказывается, они завалились за подкладку (те ключи, которые ищет Ходасевич в своём стихотворении — точнее, делает вид, что ищет).

110Владимир Гандельсман
Мы должны знать, что важнее создание красоты, а не созданная красота. И не читать важно роман Набокова, важно — ему писать этот роман.Бунин может не сомневаться, что молясь божкам чувственности, испове-дуя безупречную точность и пушкинское «здоровье», он надоел бы Достоевскому точно так же, как достоевские буровые установки надоедали лауреату... Что он от меня хочет? Всё давным-давно ясно — страницу назад, роман назад... Но он продолжает не ради меня.В Набокове сквозила бы постоянная просьба поклоняться его чутьистости (с помощью которой он хочет проскользнуть туда, за подкладку, в «потусто-ронность»), если бы эта чутьистость не испарялась по ходу его быстрого шага. Остаётся прочный, незыблемый фон, на котором только что растаяли его очертания.
***Человек так ест, как будто унижается.
***Мы хорошо знаем по себе позорную пустоту какого-нибудь вздоха, вроде: «Красивый закат!» А какой же ещё?Любой эпитет к стихам из «Воронежских тетрадей» О. Мандельштама — плох. Выдающиеся? Гениальные? Эпитет словно бы подбирает себя (позвонче), а затем подпирает (глухо) существительное. Вообще, когда о ком-то говорят в таком духе (особенно о современнике), прежде всего хотят уважить себя. Но дело не в этом, тем более что «нет, никогда ничей я не был современник...» И не в том, что тот или иной эпитет Мандельштаму мал. Эпитет в данном случае отделяет поэта от стихии, в которую он вернулся. Он делает из стихии стихи. Но от Мандельштама это лишнее «и» отнять нельзя. Потому что он — это стихи и... И этот союз длится без предела, становясь «безокружным». Или, если нас не устраивает родительный падеж, это стихи — я. В том смысле, в котором писала Ахматова: «Я стала песней и судьбой...»То и дело писатель стремится уползти в кокон и вылететь оттуда бабочкой воспоминаний. Совсем не худшие книги оттаивают и отстаивают «утра-ченное время». Писатель требует права быть профессионалом, возвести свою крепость в абсолют, сознательно или бессознательно вызывая огонь на себя. Дальнейшее зависит от того, успеет ли он «уползти», ибо истори-ческое время не терпит независимости и надвигается, угрожая раздавить.Если человеку посчастливится избежать такой Истории — что ж, значит так сложилась судьба, повезло, но соразмерно вакууму, который возникает между ним-человеком и Историей, почти неизбежно возникает и вакуум между ним-автором и историей, которую он сочиняет. О нём можно ска-зать — писатель, сочинитель, литератор. И эпитет возможен. И даже необ-ходим. Он заполняет вакуум.О Мандельштаме так не скажешь.

111запасные книжки. часть первая: чередования
Писатель говорит о себе и о мире. М-м — собой-миром. Это миллиметро-вый сдвиг, вздрог к окончательной ясности. История и Время не дают ему отдышаться, они настигли, и «кровавых костей в колесе» уже не избежать. Я говорю не о подвиге, не о каком-то нравственном намерении М-ма.Неблагодарное занятие — классифицировать. Всё же «работающие речь» переживают слово по-разному. Спокойный эстет пользуется им как строи-тельным материалом. Он не посягает на Слово, ибо, как он знает, Оно утрачено. Интересно, что чисто зрительно его здание представляется Вавилонской башней или «пустячком пирамид», чем-то растущим от земли к небу, и там, на недостроенной вечно вершине, разговор как раз часто заходит о Боге.Другие, «как моль летит на огонёк полночный», опалены этим страстным притяжением к невозможному. «И всё твое — от невозможного». Слово для них не строительный материал, но само их существо. Они разрушают «благополучный дом», они идут «путём зерна», и — как ни странно — при, казалось бы, горделивой попытке, их словесное творчество гордыни лише-но — оно устремлено к земле. Оно хочет почти прекратить разумное бытие, развоплотиться, перестать быть словом описывающим, стать, в конце кон-цов, тем, что описывает. «Мне хочется уйти из нашей речи...» завершается в «Воронежских тетрадях»: «Да, я лежу в земле, губами шевеля...»В силу своей природы, а не нравственного, повторяю, намерения Ман-дельштам от Истории освободиться не может. Потому что он в ней Слово, а не слово о ней. Теперь уже в его случае можно сказать: так сложилось.Я уверен, что слияние такого рода возможно и не в трагические времена. И слияние — не обязательно растаптыванье. Но в личном, человеческом смысле — это событие всё равно трагическое. И — не эстетического поряд-ка. Не много в литературе такого. Вероятно, ещё проза Платонова. (Не зря Воронеж породнил этих людей. «Здесь Пушкина изгнанье началось / и Лермонтова кончилось изгнанье...») Она, эта проза, становится на наших глазах гарью, дорожной пылью, тем чернозёмом, из которого возникла. Это гибнущая эстетика, которая знает на что идёт. Совестно определять подобное явление в восторженных терминах. Оценка унижает и умаляет, как бы высока ни была.Читая «Воронежские тетради», всё, что мы можем сказать: ты говоришь.М-м «до опыта приобрёл черты» и затем, уже осознавая свой опыт, гово-рил, что искусство — радостное подражание Христу.Подобно двойственной природе Христа — двойственна суть поэта: челове-ка культуры, послушника культуры, обращённого к людям, понимающим условный язык с полуслова (я бы сказал — с полу-Слова), — и человека стихии, еретика от культуры, бежавшего своего обращения и говорящего с людьми, которых ещё нет. Но — «но то, что я скажу, запомнит каждый школьник».Напряжение этих двух разрывающих сил в случае акмеиста особенно вели-ко. «Тоска по мировой культуре» — мощное силовое поле, фундамент,

112Владимир Гандельсман
которому не страшны землетрясения. Но М-м, и прежде не по-книжному обходившийся с культурой, в «Воронежских тетрадях» освобождается от неё. В том смысле, что она больше не давит. Та формула — «тоска по миро-вой культуре» — растворилась в крови. И поэт задыхается. Потому что, становясь дыханием, перестаёт быть тем, кто дышит.Аналогия с Христом (быть может, раздражающая ангельский слух) не нами придумана. Она подсказана самим поэтом. По его слову и сбылось.В «Воронежских тетрадях» «небо» и «земля» его буквально разрывают на части. Если любитель математики даст им частотную характеристику, он увидит, как к «земле» льнут родственные ей слова, и к «небу» — родствен-ные ему. Следует также учесть обстоятельство времени «ещё» — «Ещё не умер ты, ещё ты не один...» Таковы обстоятельства Времени. Пропустив сквозь себя, настоящего, — «неужели я настоящий / и действительно смерть придёт» — будущее и сомкнув его с прошлым, — пропустив сквозь себя ток Времени, — поэт перестаёт быть. «Немного дыма и немного пепла».Эстет аккумулирует энергию прошлого и выходит (если выходит) в буду-щее через чёрный ход.«Стихийный человек» — в настоящем, и поскольку настоящее всё время падает в прошлое, постольку он пытается «оторваться» и прежде всех про-пускает через себя электрический разряд слова. Он словоотвод, за которым следует «гармонический проливень слёз».Говоря о поэте как о «стихийном человеке», я хочу сказать, что есть тайна — и я не собираюсь её разгадывать, — тайная грань, которую Ман-дельштам, к счастью, не переступил и за которой начинается безумие. («Может быть, это точка безумия...») Что древнюю силу стихии удержива-ет, усмиряет тренированная сила культуры. Что поэт — та самая точка, в оторой эти силы сходятся и через которую говорят. — «Язык простран-ства, сжатого до точки».Мы помним, о чём это. Но однозначная речь, которая идёт в обход обще-принятой логики стиха, обретает многозначность и словно принуждает нас пользоваться ею без разрешения, но просто, когда необходимо. Таковы многие строки М-ма — пучки смыслов — «чистых линий пучки благодар-ные».Это не заумные и не безумные стихи, но стихи, опережающие разум. Потому что говорящий — «переогромлен». И земля — «перечерна» и «переуважена». Потому что «город от воды ополоумел», потому что «кри-сталлы сверхжизненные», потому что «ещё мы жизнью полны в высшей мере» (читай «высшую меру» в контексте времени). И — «десятизначные леса». И — «тысячехолмия распаханной молвы...»Мы хотим нормального смысла? Может быть, и найдём. Но вымолвив приставку «пере» или «сверх», М-м не знал, о чём будут стихи, он знал только, что — прав. Так что смысл — в этих четырёх или восьми буквах.

113запасные книжки. часть первая: чередования
«Что делать нам с убитостью равнин?» — и что делать нам с этим вопро-сом? Ничего не делать. Слушать. Как сказано у Платона — «только бы ты говорил!»Конечно, кладоискатель будет копать. Он обнаружит, что скрипачку «с кошачьей головой во рту» М-м видит из зала, и гриф скрипки, обращён-ный на него, в плане, с колками по бокам, с усиками струн, — это и есть «кошачья голова». Этот читатель увидел прекрасно: скорость его зрения и слуха равна скорости записыванья — потому он успевает рассмотреть и услышать. И всё же настигнутые и постигнутые строки лишь свидетель-ствуют о том, что мы уже знали. Иначе — и не догоняли бы.Это взрыв эстетики. Эстетики как чередования норм. То, что простодуш-ный и благодарный читатель усвоит с лёгкостью, «как простую гамму»: «там я плыл по реке — с занавеской в окне, / с занавеской в окне, с голо-вою в огне», — понять окончательно может только поэт. Он знает, какой силы взрыв даёт такую тишину и свободу. И если уж говорить о народной поэзии или песне, то — вот она: «Трудодень земли знакомой / я запомнил навсегда:/ Воробьёвского райкома / не забуду никогда!» Разве рифма «навсегда-никогда» возможна?Это взрыв эстетики, на развалинах которой слова произрастают, напри-мер, так: «Как подарок запоздалый, ощутима мной зима — я люблю её сначала неуверенный размах». (И в этой частушке «зима-размах» — рифма?) Взгляните на расстановку слов. С таким неумелым доверием к слову — я имею в виду две последние строки — относятся только дети.Но вы не будете «взглядывать», вы не будете искать логику, вас не смутит грамматика. Идёт называние главных слов, каждое из которых могло бы стать началом нового стихотворения. Это своего рода огромный акростих. Или акрочерновик. Есть ли ещё книги, которые являют процесс работы с такой очевидностью? Причём не подготовительный и даже не конечный. Обратный, что ли... Как если бы Мандельштам из застихотворной тьмы возвращался к стихам и окликал их, наугад, второпях, пытаясь вспомнить хоть слово, надеясь, может быть, потом восстановить по нему целое, но сейчас — сейчас лишь бы стих не пропал без вести. И словно не успевая донайти что-то одно, он проговаривает уже следующее, из другого стихот-ворения, и вновь возвращается к первому, и т.д. — не случайно одна и та же строка или одно и то же слово, как сигнальные ракеты, вспыхивают в разных точках книги.Я думаю, здесь главное отличие поэзии М-ма от позднейшей. Современный поэт — догоняет слово. М-м же — по ту сторону слова, он вытеснен из него какой-то противодействующей силой. Какой-то — но равной, по третьему закону Ньютона, силе действия. Потому те слова, которые ещё есть, — на вес золота. Их не размывает, «утопленница-речь» прочно уходит на дно. Это некие интонационные слитки. Кажется, что бы Мандельштам ни сказал — всё будет правдой. Он становится безусловным, как явление природы, которому не нужен подтверждающий эпитет.

114Владимир Гандельсман
***«В поисках утраченного времени». Утраченным является не только прошедшее, но и будущее (будущее совер-шенное, то есть описанное в романе).Автор настигает счастье, если оно совпадает с уже воображённым.Так, все его герои появляются до того, как появляются реально, — именем ли Берма, книгами ли Бергота, разговорами о Германтах, запахом духов Одетты и т.д.Настигнув же их, Пруст, как правило, видит: «время», явившееся ему через «золотую дверь воображения», и «время», вошедшее в «постыдную дверь опыта», не совпадают.Именно в этой разности бьётся его аналитическая препарирующая мысль, бьётся, — ибо поддержана вдохновением, жаждой любви, — то есть при-страстная, стягивающая нечто друг с другом, отчаиваясь, что не стянуть вполне, или разрывающая и т. д.И у Пруста (как у Кафки) — вечная недостижимость. Прустовская недо-стижимость — прежде всего счастья. «Счастье нам достаётся, когда мы к нему охладеваем» («Под сенью девушек в цвету»).
***Образ жизни: скажи, что меня нет дома.
***Не хотите ли из тяжести недоброй прекрасное создать? Ведь появляется драгоценная иллюзия бессмертия. А раз так — убывает страх смерти, обре-тается достоинство... Нет? А зря...Ведь если сжать цель жизни в единственную, бесконечную и мгновенную точку смерти и определить эту цель как способность достойно умереть — а достоинство и честь едва ли не лучшее, что есть в человеке, верно? — то стихи (и любое другое иллюзорное искусство) становятся незыблемы, непререкаемы и неприкосновенны.
***Всё примерно ясно.
***Есть лирика вечных тем. В её основе «высокое волненье». Темы эти не изнашиваются, но тускнеет лексика, затверживаются ритмы, вслед за большим поэтом в водоворот его открытия втягиваются поэты рангом пониже. Происходит забалтывание тем, их опошление (по терминологии Тынянова). Тогда появляется авангард. Авангард взрывает пошлость. Он работает на поверхности, его энергия — энергия возражения, протеста, авангард выворачивает затасканную тему наизнанку, пародирует её, взрых-ляет словарь, нарушает ритм. Авангард — это шокирование публики (к

115запасные книжки. часть первая: чередования
сожалению, вполне расчётливое) и затем — достаточно надолго — завоева-ние её.Важнее, однако, процессы, идущие на глубине. Именно в том, нижнем, течении вечных тем — основной состав человека. Там он дышит.Раз прочитав авангардиста, едва ли я буду его перечитывать. Это пауза, отдых. Это воздух улицы внутри проветриваемого помещения, но не воз-дух улицы на улице.
***Каждое стихотворение — это новая попытка сказать всё, наконец-то ска-зать. Все прежние попытки не удались. Новое стихотворение неизбежно, ибо вчерашнее — уже неправда, уже не твоё.
***Кто-то столь мучительно снился, словно бы уже во сне знал, что я не вспомню — кто.
***Произведение потрясает не тогда, когда ты читаешь о себе нечто совер-шенно новое или, наоборот, нечто очень интимное, но когда ты не мог даже вообразить, насколько это о тебе.
***Авангардное искусство — это история болезни, записанная самим пациен-том. Любую пьяную, безумную, невразумительную речь можно выдать за авангард. Он всегда вторичен (вроде реакции «сам дурак!»). Чисто соци-альное явление. Или — особая форма ущербности.
***Вдруг возник мой старый знакомец, большой книгочей, человек, внезапно предающийся какой-нибудь идее, как разврату. На сей раз он принёс дока-зательство бытия Бога, прочитав накануне книгу о Л. Толстом (если не ошибаюсь, С. Бочарова) и «Иккю Содзюн» Штейнера. Я хочу, пока не забыл, привести это доказательство, как приводят на последней странице журнала шараду. А вы найдите, подобно мне, единственную несообраз-ность в этом почти безупречном рассуждении. Адресуя его натурам скорее идеологическим, чем художественным, я опускаю всю очаровательную неповторимость речи моего знакомца. Итак!Нельзя ли разумно доказать неоспоримую заданность любви человеку, которая выражена в том, чтобы делать благо другому, любить другого?Толстому это было необходимо, чтобы доказать бытие Бога.Если есть всеобщий закон, то есть и тот, кто его установил. Если есть тот, кто его установил, то и мы частица общего замысла, и наша конечная и бессмысленная жизнь мгновенно обретает всемирное и нетленное значе-ние, — жертва, так сказать, оправдана.

116Владимир Гандельсман
Толстой поднимался снизу вверх. По своей христианской начитанности он знал (а сердце, как всякому человеку, подсказывало), что земным выраже-нием замысла должна быть любовь. Но где её взять? Люди, мягко говоря, друг друга недолюбливают.Вот тут вступаю я. О любви как о данности говорить можно. Пока ребёнок не стал разумным. Это не деятельная любовь, но действенная (разницу между деятельностью и действием нам объяснил Кришнамурти).Ребёнок, явившийся из небытия, — врождённая нежность, врождённая слабость, врождённая неагрессивность, — разве это не всеобщая боже-ственная заданность и разве не проявление действенной любви к миру самой неспособностью ко злу?Толстой любит мысль о непротивлении злу насилием. Но он смотрит на разумного человека, то есть на человека, который не может не участвовать в зле, значит не может любить.О чём же говорить? Реальный мир (политика, семья и пр.) «строят» разу-мные люди, которые «отпали» от любви. Любовь, «задержавшаяся» навсег-да, — это дар, не сочетаемый с разумом, вполне данный лишь Христу, веч-ному умному младенцу.Ещё раз: указующий перст — есть, и он носит характер всеобщности. Можем ли мы на этом основании вывести, что цель Творца — всё-таки наша любовь, и таким образом попытаться придать смысл нашему конеч-ному пути в бесконечном?Но если практика разумной жизни всё опровергает, то возникает есте-ственная мысль: раз человеку дано понимать, что рождён он для любви, что это всеобщий закон Бога, но дано также понимать, что закон «выве-тривается», значит божественный замысел состоит в том, что человек и должен быть раздираем противоречием: хочу, понимаю всем разумом, что должен любить, но — не могу. Не могу, хоть убей.Тут я опять вступаю: нет! Если основанием для доказательства служит все-общность, то — нет. Нет такого («нелюбовного») замысла.Любовь — дар изначальный, божественный, всеобщий, данный младенцу.Разум — изначально не данный, но и впоследствии не всеобщий, — он как бы не божественного происхождения, но уже приобретённого, человече-ского. Бог, так сказать, воспрепятствовал всеобщему приобретению этого дара, дав безумных и юродивых. (Не зря и Церковь их любит, верно?)Трагедия, однако, разумного большинства остаётся: разум, даже если он видит изначальную всеобщность любви, полюбить не может. Любая жизнь, и в особенности жизнь Толстого, тому подтверждение. То есть человече-ская жизнь — всё же постоянная и диковатая попытка опровержения божественного замысла. Разум не может соответствовать тому, что может безусловно доказать. Он обречён. Обречён страдать, потому что обречён совершенствоваться в достижении любви и никогда её не достичь.Эту (не новую) мысль доказал своей жизнью Толстой. Особенная же глу-бина трагичности в его случае, возможно, в том, что он почти вывел «закон Бога» (окончательно вывел я!), но не смог ему подчиниться...

117запасные книжки. часть первая: чередования
Но здесь я решительно оборвал своего приятеля — шарада была разга дана.
***Особенно трудно полюбить человека искусства (естественно, не о женской любви речь)... Смотрю выступление режиссера. Он противник всякой неправды в искусстве! Как его полюбить, когда он так ложно значителен?.. Впрочем, его значительность столь же поверхностна, сколь и моё раздра-жение. На самом деле, ложная значительность — от боязни быть самим собой и говорить как скажется. А это — от переживания как раз собствен-ной незначительности. И вот тут его можно полюбить... Или пожалеть...
***Две незнакомые старушки, одна напротив другой, в трамвае.– Вот, возьмите яблочек! (Даёт три штуки.)– Зачем?– Возьмите, возьмите.– (Важно.) Зачем так много? Мне не надо... (Берёт, пауза.) Вообще я не люблю подачек... (Она не хочет обидеть ответом, ничуть, это именно «вообще» — простота нерефлектирующая.)– Хорошо с чаем. Вкусно.(Пауза.)– А какой это сорт?– Сладкие.– Кислосладкие или не очень?(Кто-то вмешивается:)– Это хороший сорт, берите! («Кто-то» не выдержал непредсказуемого и вроде бессмысленного, не выдержал, хочется сказать, истинного.)И всё. Диалог абсолютно нехитрящих людей удивителен.
***Отсутствие (почти) прямой речи героя Пруста. Любимый прустовский пер-сонаж — бабушка — по сути, тоже дана только в косвенной речи. И наобо-рот: всё, что подвергается насмешке, — всё говорит. Что бы это ни было, ясно, что речь — есть разновидность Имени для Пруста, то есть нечто уяз-вимое и неадекватное персонажу.
***Поэтов (и прочих «творцов») можно бы «варварски, но верно» разделить на две неравные части: работающих от избытка (меньшая) и — от недостатка.От избытка здоровья, жизнерадостности (не физических, конечно), от природного дара любви, воображения и пр., выходящих из берегов и пита-ющих творчество. Духовное здоровье, естественно, не исключает трагиче-ского воплощения.

118Владимир Гандельсман
От недостатка — чего? Вышеперечисленного. Эти не настоящие. Мстят потихоньку миру, Богу за недобор и обделённость. Не случайно все виды лишений (от расставания с возлюбленным до войны) легко и в большом количестве плодят стихотворцев из людей, при-родно неодарённых. То же и физические недостатки.(Фрейд, определяя талант, имел в виду этот второй сорт людей и был прав. Полноценный же Набоков напрасно воспринимал его сентенции на свой счёт. Во всяком случае, раздражался.)Первые, говоря романтически, власть и богатство имеют, но о них не заботятся — потому-то зачастую живут в материальной нищете и в полной безвестности.Вторые — рвутся к власти и богатству, потому-то их и захватывают, и даёт-ся им это порой легко. (Первым не до борьбы.) Они — разновидность политиков. Ведь механизм прихода к власти элементарен. Власть — един-ственная область человеческой деятельности, где посредственность может добиться успеха и отомстить миру. В пределе — уничтожить первых. (Сталин тому пример.)Когда первых непрестанно попирают, им ничего не остаётся как сказать: время — единственный судья поэта. (Иногда История и впрямь восста-навливает справедливость — правда, может ли быть справедливость посмертной? — всё-таки Гораций или Овидий для нас собеседники, а ска-жем, Август — имя, в лучшем случае — месяц, но едва ли живой человек.)Вы скажете: но первые — попросту более дальновидные политики. Они рвутся к той же власти, к духовному порабощению (и, кстати, добиваются этого).Нет. Почему — вам объяснит собственная страстность (если она есть).
***Абсурд — это игнорирование души, презрение к идеям, это искусство ничего не сказать, говоря. То есть — предельно чистое искусство. Не уяз-вимое искусство исповеди, но неуязвимое искусство эстета.Это до-смысл или после-смысл.В первом случае — инфантильный абсурд. Ещё, собственно, нет мыслей у автора, и он нервничает. Энергия творчества уже есть, а материала ещё нет.Во втором случае — перезрелый абсурд. Уже, собственно, все мысли наскучили автору, и он нервничает. Инерция творчества ещё есть, а мате-риала уже нет.Абсурд — занятие, конечно, аристократическое, но это, изящно выража-ясь, вымирающее дворянство литературы (правда, вымирать оно будет вечно).Подтверждением этих мыслей является замечание Е. Шварца о Хармсе в дневнике, о его вымирающем аристократизме, о ненависти к детям и о том, что имей он детей — это было бы что-то уже страшное.

119запасные книжки. часть первая: чередования
Абсурд одет с иголочки, и я могу полюбоваться на него, но разговаривать нам не о чем. И тому и другому будет скучно. Его стошнит от моей пле-бейской «задушевности», меня — от его бесплодной холодности.И всё-таки интересен только такой абсурд — чистый.Абсурд же как реакция на бессмысленный социум и вовсе примитивен, являясь, по сути, оборотной стороной той медали, которую презирает.
***Масса времени.
***Среди прочего Пруст делает невероятную попытку — которая иногда увенчивается почти успехом! — выследить под микроскопом и рациональ-но объяснить: что есть любовь. Этот «почти успех» сопутствует ему, когда при близком рассмотрении предмет не утрачивает для автора свойства внушать эту самую любовь. Мысль Пруста сводится к тому, что мы любим предмет в его бесконечной связи с окружающей его обстановкой, с его историей и т.д. и т.п., точнее: со всем, что в нашей душе соприкасается с ним; ещё точнее: саму душу, как бы связующий раствор, который «дер-жит» мир в поле зрения; ещё точнее: абсолютно всё.Поскольку это никак не меньше бесконечности, постольку полным успе-хом такая попытка увенчаться не может и постольку разочарований на пути автора больше, чем достижений (особенно, когда предметом любви является человек).Пруст хочет проследить все сцепления, все связи вещей, то есть разъять материю любви во славу её цельности. Распять Христа, чтобы восхитить-ся, что Он воистину Бог.
***Спортивное:
Вчерашний день часу в шестомзашёл я на Сенную, –там били женщину шестом,прыгунью молодую.
***Она воспринимает мир как личное оскорбление.
***Стихи образуются из той дистанции, которую поэт держит между собой и миром. «Я сохранил дистанцию мою». Уничтожение этой дистанции — путь к пошлости. «Юродивость» поэта — его дистанция.

120Владимир Гандельсман
***Что лучше — облакачиваться или улетучиваться?
***С одной стороны, жизнь становится делом прошлого, но, с другой сторо-ны, смерть перестаёт быть делом будущего.
***Речь всё время идёт о том, что любовь гибнет в познании объекта любви (то есть варьируется, по сути, библейская притча о дереве жизни и дереве познания). По Прусту, то, что мы в результате познаём, — не является тем, что мы любим, нас ждёт разочарование. Одна из кульминаций этой мысли в этимологическом расчленении имён городов, которые герой проезжает с профессором Бришо. После чего их таинственное звучание улетучива-ется.
***Таможня — это олицетворение государства, то есть оплёвывание человека.
***Снится сон: встречаю девушку, совершенно случайную знакомую, о кото-рой я никогда не думал и никогда думать не буду, встречаю её в театре, уславливаюсь увидеться во время антракта в буфете (она из того ужасного разряда знакомых, с которыми мы не умеем обходиться по формуле «здрасьте-до свиданья» и совершаем тягостный обмен вопросами и — на прощание — телефонами, впрочем, тотчас исчезающими). Антракт, пьём лимонад, расстаёмся. Всё бесследно забываю. Забываю сон. Я его, соб-ственно, и не помню. Вспоминаю, что он мне снился, только лет через пять, когда встречаю девушку, совершенно случайную знакомую, с кото-рой... в том самом театре... тот же цвет портьер в фойе... очередь в буфет из тех же лиц и т. д.Точное повторение сна.(Чаще бывает другое: мгновение словно бы повторяет в точности уже некогда бывшее. Но — бывшее наяву.)
***Что было бы без чувствительности и сентиментальности Пруста? — умная и замечательная, но посторонняя картина.Пусть враг сантиментов в литературе помнит, что дело не в них, а в под-линности и соблюдении меры, пусть также помнит, что чья-то насмешка настигнет его ироничность в такой же степени, в какой его ироничность сейчас насмехается над чьей-то сентиментальностью, что это дело време-ни и что потехи час настанет.Иронизировать можно в любой области (в том числе — мнимой), сенти-ментальничать — по преимуществу, в подлинной.

121запасные книжки. часть первая: чередования
Иногда фраза Пруста такова, что, для того чтобы уследить за тем, как завершится мысль, некоторые из бесчисленных ответвлений фразы про-бегаешь наскоро, интуитивно, не успевая их исследовать, чтобы мысль не потерять.К такому чтению можно возвращаться через год, через два, всю жизнь, то и дело останавливая взгляд на том, что пробегал, и пробегая то, на чём останавливался.Можно было бы исследовать (отчасти, техническую, так сказать, сторону): чем тот или иной писатель намагничивает своё произведение.
***Стадия старения: большинство новых людей стало «повторяться», напо-минать прежних знакомых. Словно бы типы себя исчерпали.Следующая стадия: все на одно лицо.
***Набоков и Платонов (по-разному, и П. в большей степени) добиваются результата в каждой фразе (Н. — точностью, остроумием, чистотой слова-ря; П. — мучительностью, постоянным соединением разнородного, деформацией — «как будто бы железом, обмокнутым в сурьму...» Заметим, что у Н. один из основных принципов письма — мимоходная манера про-износить безукоризненные точности и что удача избранной манеры в том, что он, географически не находясь в русском языке, не располагал «киша-щим» словом, способным брать точность нутряную).Ни того ни другого без языка нет. Сюжетные ходы Н. надоедают, а у П. они и вовсе не важны.Есть ли другая проза? — не добивающаяся результата ежеминутно?Например, Кафка (пусть в переводе). Такая проза наращивает потенциал «своего», «странного» взгляда. Тебя обступают нормальные деревья — все породы знакомы, — и вдруг оказывается, что это уже не знакомые дере-вья, а чужой неведомый лес, из которого не выбраться.
***Вдруг, на пятой книге Пруста, видишь героя Марселя как психически больного и неприятного типа, употребляющего мир (и девушку, в частно-сти) в виде успокоительного лекарства: узкогрудый и длинношеий птен-чик, которого носит в своих объятиях румяная велосипедистка Альбертина с кошачьим носиком. Марсель — то в объятиях Альбертины (не наобо-рот), то повисает у неё на шее (от радости) и т.д. Это всё ещё тот мальчик в Комбре.
***Читая Кафку (в частности, «Замок»).

122Владимир Гандельсман
Эффект «непредвиденного пространства». Вполне жутковатый. Читатель оступается в соседний равноправный мир, который только что топтал или проходил насквозь или мимо, не ведая о его существовании.К. в доме крестьянина, в горнице. И вот из банного чада открывается: «...в огромной деревянной лохани <...> в горячей воде мылись двое мужчин...», а затем, в углу, К. видит женщину. «К её груди прильнул младенец. Около неё играли дети, явно крестьянские ребята...»Два новых мира, а в целом — некое дурное пространство, которое не настичь, как горизонт (как и сам Замок).Нечто похожее происходит со временем. «Когда они — К. узнал знакомый поворот — уже почти добрались до постоялого двора, там была полнейшая темнота, чему К. очень удивился. Неужели он так долго отсутствовал? <...> ещё недавно стоял совсем светлый день, и вдруг такая тьма...»Ещё о пространстве: «Оба они — и отец и мать — сразу, как только К. вошёл, двинулись ему навстречу, но всё ещё никак не могли подойти поближе».Это постоянная неосуществимость. Как попытка настигнуть сон. Настигнуть (осознать) сон мог бы только бодрствующий. Но бодрствую-щий уже не спит. Или так: человек мог бы настичь свою смерть, но настиг-ший её — уже не человек.Может быть, пространство у Кафки является образом времени?
Разворачивается трагедия нерешительности, неразрешённости. Герой, над которым идёт некий процесс, должен, по здравым понятиям, послать всё к черту, покончить со всем одним махом, в конце концов, покончить с собой, но — не тут-то было. Напряжение, нас томящее и раздражающее, возникает из того, что герои всё делают (и говорят) правильно и логично, но не то. Гром гремит, но гроза не разражается. (Кстати, всё время темне-ет, почти никогда не светлеет, в метеорологическом смысле.)Другими словами, герой в диалогах и в действиях пересекается с другими и пересекается с истиной, но никогда не сталкивается. Виадук.
Характерно, что и все романы Кафки не завершены.
Герой неосуществим даже в имени. Это во-первых. Во-вторых, точка, в которую стянуто имя героя, как и любая точка, обладает двумя встречны-ми свойствами: она — точка, что-то остро-определённое, дырявящее пло-скость; но она и нечто, не имеющее черт, лица, плоти вообще, нечто, ста-новящееся ничем.
***Пруст пишет: «Гоморритянки довольно редки и вместе с тем довольно многочисленны». — Есть ли у П. совесть?

123запасные книжки. часть первая: чередования
***Ф. мне рассказал, как однажды, когда он возлежал с любовницей, ему позвонила жена (о существовании которой любовница не знала) и он успешно с ней поговорил, называя её «мамочкой».
***Роман Пруста — это тоска по цельности, которая умерла вместе с бабуш-кой героя. Наблюдения светского общества несколько приедаются, несмо-тря на безукоризненные проницательность и точность, — приедаются из-за однообразия приёма: если N. говорит что-либо, можете быть увере-ны, что думает он противоположное и т.д. Это, в сущности, гениальный трактат о лицемерии (во всём, что касается людей; исключения — иногда герой, мать, отец, всегда — бабушка).
По первым пяти книгам наиболее мощных образов — два: самый бессло-весный — бабушка («ангел») и самый многословный — де Шарлю («дья-вол»). Зло разговорчиво.
Прочитав Пруста, можно написать воспоминания о его книге.
***Иногда человек отвечает по схеме: «Да, конечно, но...» — и завершает это «но» абсолютным «нет».Таковы люди, которые, с одной стороны, не могут поступиться совестью, чтобы согласиться с тем, с чем не согласны, а с другой — репутацией «хорошего» человека. Категорически несгибаемое мнение не вызывает симпатий. (Точнее было бы сказать, что человек не поступается своим представлением о своей репутации. В действительности-то он имеет репу-тацию лицемера.) Из всего этого следует, что люди не имеют ни совести, ни собственного мнения — раз, и что они этого более всего не выносят — два.
***Кафка — это атлас человеческого унижения, стыда и вины. Человек рож-дается, чтобы выяснить, в чём он виноват, и извиниться.
***Всё имеет смысл, кроме этой фразы.
***Начинаю предложение, но не помню, как закончить.
***Стилизация на тему Ф. К.С. пошёл на кладбище навестить могилу своего друга. В воротах его оста-

124Владимир Гандельсман
новили и долго не пускали, он стал рыться в карманах, искать пропуск, но попадался то читательский билет, то ещё что-то, пропуска не было.Потом он вспомнил, что никакого пропуска и не может быть, и сразу про-шёл за ограду. Справа, наискосок, находилась могила, он уже видел небольшой надгробный камень, но видел его сзади. Когда же он обошёл его, то был удивлён: с лицевой стороны камень был огромный и на его фоне, в нише, выдолбленной в нём, копошились люди, человек пять, — трое из них держали многофигурную композицию-барельеф, по-ви-димому, опускали её на землю, двое других что-то лепили в нише. С. не разглядел — что именно, ему показалось — глиняные головы. С. стало неловко, что он их видит, а они не обращают на него внимания, и он быстро пошёл на выход. Вторично он был удивлён, когда почувствовал, что идёт обратно много дольше, чем туда, и когда, наконец, понял, что ему не выйти. Проплутав некоторое время, он набрёл на небольшой дом, напоминающий больничный барак, сразу сообразил, что, пройдя его насквозь, он окажется за кладбищенской оградой, и вошёл внутрь. Там встречались люди, чьих черт от волнения С. не видел, они ему казались серыми пятнами, и когда он их спрашивал, как ему выйти, они одинаково отвечали: «Туда... туда... и туда», при этом указывая ладонью куда повора-чивать, но указывая неопределённо и равнодушно. Потом ему попалась девушка, которая молчаливо согласилась проводить. Они вошли в комна-ту, где был всякий хлам: пыльные стулья, столы, стремянки, тюки и пр. Девушка показала под потолок — там С. увидел двойные двери антресо-лей. Но до них надо было ещё добраться. С. поставил стремянку и начал разбирать тюки, развязывать бесконечные верёвки гамаков, которые пре-граждали путь к двери, сверху сыпались опилки, труха, С. посмотрел вниз, девушка стояла и смотрела, как ему показалось, с улыбкой и чуть ли не с любовью. И вот он открыл двери и по пояс высунулся на крышу. Пасмурное небо, крыша, покрытая снегом, и за ней далеко внизу — голая, зимняя земля. Спрыгнуть с такой высоты было немыслимо, кроме того, С. уже как-то потерял целеустремлённость, что-то приятно рассеивало его мысли. Он спрыгнул обратно в комнату, девушка его обняла, он ответил ей тем же, и прежде, чем уложить её на тюфяк, он спросил немного раз-вязно (чтобы она не подумала, что он боится): «Сколько тебе лет?» Она сказала: «Четырнадцать». С. подумал испуганно: «Она же совсем девочка», но чтобы продемонстрировать свою неиспуганность, прикоснулся губами к её шее...Добавить ли, что он почувствовал на шее лёгкую щетину, каковая бывает лишь у мужчин через день после бритья? Или это будет слишком?
***Собственное мнение — это самое близкое к свободе рабство.
***О.: «Интеллигент хочет всегда переплюнуть уже наплёванное».

125запасные книжки. часть первая: чередования
***Достоинства Пруста столь неоспоримы, что интереснее говорить о недо-статках, даже если их нет. Известное дело, недостатки таких величин, едва они замечены, в тот же момент могут быть объявлены достоинствами, к которым мы обычно добавляем два слова: своего рода. В качестве примера можно бы взять стилистически невыносимые скобки — (подобно броду, через который надо идти, высоко держа оружие прерванной фразы, чтобы она с тем же автоматическим успехом стреляла на другом берегу) — кото-рые легко становятся своего рода достоинствами. И, в конце концов, к системе, своей сложностью превосходящей наше разумение, мы не имеем права предъявлять какие-то претензии (если, конечно, она нас заворажи-вает).
Можно было бы проследить, как вступают, легко, намёком, как осторож-но пробуждаются темы Пруста, как набирают силу и сплетаются, как одна из них вырывается из хора и звучит крещендо под аккомпанемент других, и кажется, что на неё ушли все силы, но она затихает — со смер-тью ли бабушки или Свана — и порождает в нас досадливое беспокой-ство — нам жаль расставаться с ней, и мы волнуемся, что другая такой силы не достигнет, но вот появляются Эльстир, Бергот или Вейнтель, и из затухающих всплесков оставленной темы вытягивается новая — так бегуны на дальние дистанции уступают друг другу лидерство, вплоть до финишной прямой оставляя нас в напряжении и неведении, — и по ней, по новой теме, мы, уже наученные опытом чтения, в самом начале пыта-емся угадать, кто вырвется вперёд, какие завитки пойдут в рост по мере нарастания темы и какие нити совьются в новый канат, когда звучащая тема достигнет крещендо и исчерпает себя, словно бы робко войдя в салон Германтов болезненным, непорочным и влюблённым мальчиком и выходя из салона Вердюренов мощной, развратной и поверженной фигу-рой де Шарлю.
***От меня не ускользают нюансы мимоходной жизни. Те нюансы, которы-ми так элементарно инкрустируют прозу. Поэтому и писательство пред-ставляется мне скорее не как избранность и талант, но как болезнь запи-сыванья.
***Если бы я ничего не писал, мне нечего было бы читать.
***Всё что угодно, но не стелить постель.
***Эмигрант с двухлетним стажем: «Не зря всё-таки два года пропало!»

126Владимир Гандельсман
***О великий, могучий, правдивый и свободный русский я...
***Психика всегда уже есть.
***Лучше бы пошёл сдал бутылки!
***Как дыхание — физический, так слово — духовный выход из тупика. Слово именует то, что вошло и входит в состав человека; оно неизбежно, как неизбежен выдох после вдоха. Иначе, говоря красиво, выкипает душа, как выкипает в безвоздушном пространстве кровь.Всё же слово с маленькой буквы, человеческое слово, далеко не всегда неизбежно. Смешанное с выдохом, оно не обязательно благоуханное дыхание младенца. Быть может, до древа познания оно произносилось на вдохе, лучше сказать — было вдохом, от которого нам осталось неиз-бежное «Ах!» — удивления ли, страха, то есть чистой эмоции открытия или замирания. На другом полюсе — вторичность, в пределе выражаемая проклятием, слово-плевок, и оно — очевидный выдох, некое «тьфу!»Как бы там ни было, но из этой смеси почти непроизносимого (но и неизбежного) на вдохе и слишком произносимого (и часто необязатель-ного) на выдохе и состоит человеческое слово. И оно — есть дыхание искусства. Порой у одного и того же художника это дыхание прекрасно прослушивается. Весенний берлинский день Годунова-Чердынцева и его памфлет на Чернышевского — суть вдох и выдох.Сиюминутная сила произведения не измеряется гармоничным соотно-шением вдоха и выдоха. Скорее уж наоборот: явное преобладание одной из составляющих (особенно — второй) производит неотразимое впечат-ление на современников. Дисгармония — явление более доступное, более желанное, более отвечающее состоянию человека, а поверхност-ный читатель (каким почти наверняка современник и является) склонен сводить художественное впечатление именно к совпадению материала с тем, что он более или менее самовлюблённо переживает. (Отсюда и повышенный интерес к авангарду, чья добродетель — элементарная дис-гармония.)Гармония — явление сложное и малопривлекательное, поскольку на вид — скучное. Равнодействующая сил там равна нулю — стоит ли отда-вать себя на растерзание разрывающих векторов, если они, взаимоунич-тожившись, ничего не прибавят к вектору индивидуальной целенаправ-ленности. Кому нужно это невыгодное чтение? Кто любит забывать себя, любимого?И всё же и поэту, и читателю иногда ведомо чудо самоисчезновения. Человек, погружённый в чтение, равен пейзажу, с той великолепной раз-

127запасные книжки. часть первая: чередования
ницей, что это пейзаж разума. И его невозможно не полюбить, настолько его нет промышляющего.«Весь с головою в чтение уйдя, / не слышал я дождя».Ни у поэта, ни у читателя нет цели, но есть цельность, есть созерцание, которое восстанавливает человека, есть разумное небывание.Критик — худший читатель, а точнее критик — уже не читатель, он цени-тель. Из абсолютной категории влюблённой тишины он переходит в сплошь относительную категорию профессиональной агрессии (восторга ли, разноса — не важно). Он становится невольником впечатлений, идей, мнений и прочих продуктов культурно-хитрящего ума.Думаю, каждому знакомо музейное состояние растерянности, которое можно сформулировать примерно так: хорошо бы знать собственное мне-ние!.. — между тем, как взгляд, только что оторвавшись от картины и словно бы мгновенно затосковав по цельности, уже тянется к пейзажу за окном. Краткое время зрения, подлинности, растворения, а проще — любви — миновало. Началась культура.Культура — есть деятельность растерянного человека. Никакого противо-речия – деятельность заглушает растерянность. Хорошая мина при пло-хой игре. Замечательно убийственное определение: деятель культуры. Заслуженный деятель искусств.Культура не только вторична по отношению к Слову, но она имеет и дру-гой знак. Вот их встреча:«Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?Иисус отвечал: ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе».Пилат в неуверенности (ведь он не находит вины Христа) и в испуге (под напором иудеев) высокомерно угрожает, апеллируя к своей власти. Пилат в состоянии нормальной человеческой раздвоенности. Культурный чело-век, произносящий не суть, а слова.Иисус отвечает не слову, но сути, а именно: я прощаю тебя, твою расте-рянность, тебя сбили с толку, наделив властью, которой на самом деле нет. Иными словами, Пилат говорит: «Я не знаю, что делать», а Иисус отвеча-ет: «Я прощаю тебя» (не угрозы, не жестокость прощает, но раздвоенность, первородный грех).Христос отвечает всегда как человек, которого словно бы оторвали от чте-ния книги, относящейся не к заданному вопросу, но к тому, кто задаёт.Слово — а Иисус и есть вдохновенное Слово — обращает человека к тишине и цельности.
***Я помню чудное мгновенье, передо мной я...
***Интервью — это когда один даёт, другой берёт.

128Владимир Гандельсман
***Зарубежище.
***Человеческая история как возня самцов.
***Тютчевское:
Нам не дано предугадать,Как наше слово отзовётся,И нам сочувствие даётся,Как нам даётся благодать, –
можно прочитать в «противоположном» направлении, а именно: нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся (на что-то), и нам сочувствие (к кому-то) даётся, как нам даётся благодать.Такое прочтение никак не беднее, между прочим.
***Диалог Иисуса с самаритянкой.Когда в ответ на просьбу самаритянки дать живой воды, Иисус посылает её за мужем, Он не знает, что мужа у неё нет. (В самом деле, не хитрит же, не «проверяет» её Иисус — да и в чём проверять?)Но Он чувствует, что самаритянка как бы не одна. Речь Его приближается к признанию, что Он и есть живая вода, и своим проникновением в чело-века Он словно бы ведёт его к мгновенному отрыву от мирского, который выражается в данном случае в словах: «У меня нет мужа».Впечатление такое, что самаритянка не ожидала своего ответа. Ею выска-залась эта незначительная правда, и огонь необъяснимого стыда как будто пережёг её связь с внешним миром. Почему стыда? Это не обычный стыд человека, который соврал или собирался соврать (опять же — зачем в дан-ном случае?), но — сокровенный стыд разоблачённого трусливого жела-ния: дай живой воды! Трусливого, потому что не всепоглощающего. Орфей (вообще — поэт) — несостоявшаяся самаритянка.
***Весёлый человек — потенциальный подлец.
***Рай — это отсутствие воображения. (Воображение появляется со слов в Библии: «Будете, как...»)
***Есть люди, чья порядочность выглядит как мелочность, верность как тру-сость, вежливость как вялость, вера как ежедневное бритьё, жизнь как

129запасные книжки. часть первая: чередования
распорядок дня. Чьё-то дарование им немедленно кажется высокоме-рием.Умеренность и аккуратность. Молчалин минус подлость. Нечто равное нулю.
***Творчество отличается от жизни тем, что в нём непрерывная утрата (люби-мых, родины, времени, наконец) есть непрерывное приобретение. (Вверх по лестнице, ведущей вниз.) И потому оно всегда чувствует себя винова-тым перед жизнью. Должно, во всяком случае, чувствовать. Ввиду своей неуместной победоносности.Есть и ещё основания для вины. Опускаясь в глубины человеческой души и высвечивая в нём уродцев, существующих, но ещё неведомых, или — воображением творя этих уродцев, творчество рано или поздно пресу-ществляет их в жизнь. Так, реально гоголевские персонажи со сцены сошли в зал, так, бесы, увиденные Достоевским, не без его творческой мощи и помощи обрели в жизни усугублённые черты. То есть приобрете-ние (новшество) в творчестве может обернуться гримасами в жизни. Грубо говоря, сначала иждивенчество, потом — разбойное нападение.Но кому придет в голову винить Эйнштейна в создании оружия уничто-жения? Разве что самому Эйнштейну. При всей чистоте и благородстве замысла, художник знает, что творит, и сожжёные рукописи свидетель-ствуют о том, какое значение (и, вероятно, не без оснований) он придаёт своему творению.«Я знаю силу слов, я знаю слов набат, / они не те, которым рукоплещут ложи, / от слов таких срываются гроба / шагать четвёркою своих дубовых ножек».И гроба сорвались, не так ли?А вот Лермонтов: «Чтоб тайный яд страницы знойной / Смутил ребёнка сон покойный / И сердце слабое увлёк / В свой необузданный поток? / О нет! преступною мечтою / Не ослепляя мысль мою, / Такой тяжёлою ценою / Я вашей славы не куплю».Далеко же мы ушли от лермонтовских сомнений.
***Не так страшен гвоздь, как его программа.
***Всё-таки работа накладывает на внешность человека.
***Выхожу один я. Надо.
***По капле выдавливать из себя раба перед зеркалом.

130Владимир Гандельсман
***Великий человек отличается от святого тем, что он всегда немного сме-шон.
***Плохой человек хуже хорошего. (Но хороший поэт хуже плохого.)
***Имеющее смысл — спорно. С бессмысленным не поспоришь.
***Всё сводится к тому, чтобы поспать.
***Пойду посмотрю, как там сосиски...
***Почему у вас из одного сразу следует другое? Почему одно не остаётся одним? Например, я скажу: «Единственный, кому следует поклоняться на земле, — это я». Вы тут же выведете: сумасшедший. А почему бы просто не послушать?
***Не знать ответы на главные вопросы (вроде — есть ли Бог?) — есть абсо-лютная определённость.
***Напрасно вы чувствуете неловкость, обнаружив себя дремлющим над тек-стом какого-нибудь замечательно-религиозного человека.(Он благополучно изничтожает Толстого-проповедника, и, вероятно, справедливо, но Толстого читать интересней.)Святость в слове — пресна, ей, в сущности, нечего сказать, так как тайна её невыразима. И если уж грешному писателю не следует со словом соваться в святость, то и святости не следует соваться в слово.
***Шотландский спонсор. Английский королевский спонсор.
***Какая мерзость: пожилые люди в шортах!
***Характер может быть только тяжёлый.

131запасные книжки. часть первая: чередования
***К искусству перевода («Кукольный дом» Г. Ибсена).Нора: Меня сегодня так и подмывает выкинуть что-нибудь...
***Небо упало в обморок, и молния распахнула дверь в бильярдную.
***Человек воспринимает жизнь как помеху.
***Чем что-нибудь хуже, тем оно более предмет искусства. Всё плохое прово-цирует на высказывание.
***Пора принять какую-нибудь религию.
***Жена даже спит с упрёком.
***Стиль жизни (по телефону):Извини, не могу говорить, я одной ногой уже на улице (вариант: в могиле).
***На первый взгляд человек может показаться интересным.
***О каком вкусе можно говорить, если на полюсе — минус?
***Медленное жаркое море. В час по ложной чайке.
***В родном языке от частого повторения слово утрачивает смысл, в чужом — наоборот. Можно, наконец, уговорить себя, что оно — шкаф, например.
***Иметь странный взгляд? Это обыкновенно. Другое дело само слово: обык-новенно.
***Никто не заслуживает того, что с ним происходит.

132Владимир Гандельсман
***Из Ахматовой:От других мне халва — что хурма,от тебя и хурма — бастурма.
***Из Розанова:Как бы убивать не прикасаясь? (при ловле моли).
***Целоваться, не говоря о больших интимностях, становится как-то неудоб-но. Давайте застегнёмся. Старость — это официальная часть, идущая после концерта.
***Из телефонного разговора:– Как дела? — Ничего... Жена сегодня палец обожгла, заплакала: всё, говорит, надоело...
***Я настолько свободен, что пишу не просто и не только, когда хочется, а гораздо реже.
***Жена и муж.Она: «Снег пошел. Боже, я так ненавижу снег...»(Вариант: «Скоро Новый год. Боже, какой ужас...»)
***Самое страшное: кабинет дантиста в самолёте.
***Самое отвратительное: подводная лодка.
***Кафка рассказывает всегда не ту историю, которую вы читаете и, есте-ственно, трактуете, а соседнюю.
Впрочем, критик это чувствует, оттого и ожесточается до статей и книг.
***Я не знаю себе цены.

133запасные книжки. часть первая: чередования
***Может быть, моё призвание — немного выпивать и нешумно разговари-вать...
***Она сидела и сдавала...
***Замечательная как человек женщина.
***Всего-то-навсего прошёл дождь, а какой неприятный осадок!
***Спросил: куда так рано,едва глаза протру? –На что вода из кранаответила: в дыру.
***Из прозы:Восточно-европейская овчарка бежала по Западно-Сибирской низменно-сти.
***Фет:
Ласточки пропали,а вчера с зарёйвсё грачи летали,да, как тень, мелькаливон над той горой.Это указание потом поддержит Набоков: «...запомнишь вон ласточку ту?»Вечности указывают, где она должна быть: здесь и сейчас — над той горой и в этой ласточке.(Обратный процесс: «Который час?» — его спросили здесь, и он ответил любопытным: «Вечность», — представляется спесью.)
***Если вас взволновало чьё-то первое произведение, прочтите второе — оно вас непременно разочарует и вы успокоитесь.
***Самый чудовищный опыт (ибо он одновременно самый неопровержимый и пошлый): чем жёстче с людьми, тем они зависимее.

134Владимир Гандельсман
***Надо всем отдать должное.
***О, только не делайте вид, что вам непонятна классовая ненависть!
***На плохое настроение надо иметь право, на хорошее — наглость.
***Животноводческий вопрос: откровенно или обыкновенно?
***Он ей испортил жизнь. Причём — всю.(Вариант: Рюмка разбилась вдребезги. Причём — вся.)
***Она была армянкой по национальности...
***Я говорю: у женщин ослаблено чувство вины, и вижу необыкновенные возможности развития этой фразы. Но чтобы мысль не потеряла глубину, я должен быть верен нежеланию додумывать её до конца.
***Провозглашение скромности как образа жизни — есть абсолютная непри-стойность.
***Знать, где зарыта собака, и съесть её.
***Я забыл, как надо писать: лявляется или льявляется? (Во сне.)
***Смысл притчи в том, что её не следует толковать.
***Пусть стены гостиниц расскажут то, что они слышали, брачным покоям.
***– Я вам этого не прощу, –говорило лицо прыщу.

135запасные книжки. часть первая: чередования
***Она приходилась ему вдовой.
***После смерти ему ужасно не везло. (Из чьей-то статьи о Чаадаеве.)Кстати: а при жизни?
***Они родились в один день, но были противоположного пола, совершенно не похожи, жили в разных странах и до конца жизни ничего друг о друге так и не узнали.
***Имея хороший вкус, можно притвориться умным.
***Сейчас я пишу предложение, которое закончится на последнем слове.
Записи 80-х — начала 90-х годов

стихи-II

137стихи-II
НАБРОСОК
Какие предместья глухиевстают из трухи!Так трогают только плохиевнезапно стихи. Проездом увидишь квартиры, –так чья-то навзрыддуша неумелая в дырыстиха говорит. Но разве воздастся усердьюпустому её?Как искренне трачено смертьютвоё бытиё! Завалишься, как за подкладку,в домашнюю тишь,и времени мёртвую хваткупод утро заспишь.

138Владимир Гандельсман
ТЕАТР
Свет убывает, в темнотеподнимут занавес,
дохнёт со сцены — я секунды те, –сырым холстом, прохладой, — о, я помню весь.
Макарова: «Светает... Ах!» –
и пухленько бежит к часам, — «седьмый,осьмый, девятый», и ленивый вздох
Дорониной, дородной ведьмы,
в кулисах, дышит и вздымает грудь.Их простодушное притворство,
их обезьянничанье. Взять бы в прутьяствор сцены, створ
вдруг освещён, театр, театр,
от слова «бельетаж» идёт сиянье,вращающийся круг, к вам Александр
Андреич Юрский, на Фонтанке таянье
и синеватый и служебный свет,экзаменационный воздух.Где ж лучше? Где нас нет.
Нас двух автобус двадцать пятый вёз, о, вёз двух,
мы в тёмном уголке, вы помните? вздрогнёму батарей в парадной,
когда проезжих фар окатит нас огнёми перспективою обратной.
Гонись за временем, гонись,
дверь скрипнет, ветерок скользнёт, иза ним Лавров с бумагами-с,
и фиолетовые фортепьяно с флейтой ноты
захлопнуты. Его ли предпочтёшь на выпускном балу,созвездье ли манёвров и мазурки?
Театр, о, монологи с пылу,бинокли, жестяные номерки,

139стихи-II
Стржельчик жив ещё, внутри фамильисвоей весь в мыле проскоча,
бежит ли вдоль Фонтанки, «нон лашьяр ми...» липоёт, театр, сверкают очи,
он пьян, он диссидент, вон, вон
из Ленинграда, в Ленинградеспектакль закончен, мост безумный разведён.
Вы раде?
Я призван этот клад зарыть,точнее, молвить слово
во имя слова: ах, что станут говоритьКарнович-Валуа и Призван-Соколова?
Примечания:
а) в стихотворении упоминаются фамилии актёров, игравших в знаменитом «Горе от ума» Г.А. Товстоногова;
б) цитаты, данные в основном без кавычек, соответствуют грибоедовской орфогра-фии.

140Владимир Гандельсман
ГОЛЬДБЕРГ. ВАРИАЦИИ
1. 1955 год
Гольдберг, Гольдберг,
гололёдв Ленинграде, колкий — сколь бег
на коньках хорош! народ –лю-ли, лю-ли, ла-ли, ла-ли –
валит, колкий снег, вперёд.
Гольдберг мимо инженеритвсех решёток, марш побед,
пара пяток, двери пара,фары, фонари, нефритулиц хвойного базара,
парапет.
Блеск витрины, коньяки лескоми ликёры, зырк, и сверк, и зырк,
апельсины в Елисеевскомпокупает Гольдберг, Гольдберг –
будет жизни цирквскачь и впрок.
К животу он прижимает куль
и летит, дугою выгнув нос,а двуколка скул,
а на повороте вынос,Гольдберг, коверкот, каракуль,
коверкот, каракуль, драп.
Сколько кувырков и сколькожизни тем, кому легка.
Пусть в прихожей Гольдберг — колкийтает снег — споткнётся-ка:
катятся цитрусовые из кулька,Гольдберг смеётся, смерть далека.

141стихи-II
2. Отпуск
Лимана срезанный лимон.Зеленоватый блеск.
На грязях.Евпаторийское (евреи, парит, сонно).
Всем животом налёг на берег, вес кпеску и с лёгкою ленцой во фразах.
(А Фрида, Гольдберг,Фрида в тех тенях, –
за ставнями твоя сестра с кухаркой.Час, каплющий с часов настенных,
как масло, медленный и жаркий.Чад, шкварки.)
Вдруг запоёт из Кальмана — платочек
в четыре узелка на голове –«частица чёрта в нас»,
примет проточныхмир, ящерица — чуть левейфотомгновения — зажглась.
Пульсирующая на виске
извилистою жилкой мира –вот, Гольдберг, вот –
на камне ящерица, высверк, брень пунктира.Встал и спугнул, в полупеске
полуживот.
(А Любка, Гольдберг,а кухарка Любка –
смех однозуб,плач — кулачок в глазу, о, Тот, Кто в хлюпко-
её придурковатую роль вверг,Тот в нежности своей не скуп.)
Разнообразье: что ни особь,
то — дивная! Он — с полотенцем полднячерез плечо — идёт домой, он — россыпь
теней листвы вбираяи ватой сахарной рот полня, –
в аллеях рая.

142Владимир Гандельсман
3. Шахматная
Он сгоняет партишку сейчасс мной, ребёнком,
он сгоняет партишку, лучасьхитрым светом, косясь и лукавясь,
Смейся, смейся, паяц, — он поёт, в его тонкомстолько голосе каверз.
Он замыслил мне вилку, и он
затаится,и немедленно выпрыгнет конь
из-за чьей-то спины со угрозой,Шах с потерей ладьи восклицает, двоится
мир, и виден сквозь слёзы.
Гольдберг, что бы тебе в поддавкине сыграть бы,
нет, удавки готовишь, зевкине прощаешь, о, Гольдберг коварист,
Заживёт, заживёт, — запевает, — до свадьбы,он и в ариях арист.
Он артист исключительных сил,
он свободен,а с подтяжками брюки носил,а пощёлкивал ими, большие
заложив свои пальцы за них, многоходен,Гольдберг, Санта Лючия!
4. День рождения
Но булочки на противне,
но в чудо-печке,но с дырочками по бокам,
сегодня будет в красном, Гольдберг, рот вине,на пироге задуешь свечки,
взбивалкою взобьёшь белок белкам.
Тем временем я с мамоюиз дома выйду
и — на троллейбус номер шесть,и душу, Гольдберг, всполошит зима мою,

143стихи-II
такая огненная с видуи вместе чёрная. Я, Гольдберг, есть.
Я знаю кексы в формочках,
мой Бог, с изюмом,раскатанного теста пласт,
проветриванье кухни знаю, в форточкахспешащие с нежнейшим шумомподошвы, приминающие наст.
На площади Труда сойти,
потом две арки,прихожей знаю тесноту,
туда я посвечу, а ты сюда свети,какие гости! где подарки?
морозец! ну-ка, щёчку ту и ту!
А вот и вся твоя семья,ты посерёдке, обе с краю.
Всё есть, всё во главе с тобой.А кто сыграет нам сегодня, Гольдберг? — я,
сегодня я как раз сыграю,а ты куплеты Курочкина пой.
5. Пятница
По пятницам, — а жизнь ушла
на это ожиданье пятниц(не так ли, дядька мой неитальянец?) –
от будней маленьких распятьиц, –ты во Дворец культуры от угла
стремишь свой танец.
Какой проход! В душе какой(на предвкушенье чудной жизни –
не так ли, родственник шумнобеспечный? –жизнь и ушла в чужой отчизне,
в той, где бывают девушки с киркой)пожар сердечный!
Участник нынче монтажапо Гоголю ты Николаю.
«Вишь ты, — сказал один другому...» Слышу.

144Владимир Гандельсман
И, помню, перед тем гуляюс тобою, за руку тебя держа.
Ты, Гольдберг, – свыше.
«Доедет, — слышу хохот твой, –то колесо, если б случилось,
в Москву...» О, этим текстом италийскимкак пятница твоя лучилась,
всходя софитами над головой,на радость близким!
Премьера. Занавес. Цветы.
Жизнь просвистав почти в артистах,о спи, безгрёзно спи, зарыт талантецхоть небольшой в пределах льдистых,
но столь же истинный, сколь, дядька, тынеитальянец.

145стихи-II
***
Боже праведный, голубь смертельный,ты болеешь собой у метро,сизый, всё ещё цельный.Смерть, как это старо! Ты глядишь на обшарпанный кузовмимоезжего грузовикаи на гору арбузов.Пить, впиваться бы в мякоть века. Воздух. Жар. Жернова.В этом белом каленьеизнутри тебе смерть столь нова,сколь немыслимо в ней обновленье. Или чувство твоёновизны так огромно,чтоб принять Её в силу Её,Боже горестный, голубь бездомный?

146Владимир Гандельсман
ПРОЛИСТЫВАЯ КНИГУ
Вдоль холода реки — там простынядубеет на ветру, прищепок птицы,в небесной солнце каменное сини,и безоконные домов торцы, то воздуха гранитный памятник,и магазина огурцы и сельдь, то выпуклый на человеке ватник,и в пункт полуподвальный очередь, и каждый Божий миг рассвет и казнь,сплошное фото серых вспышек,и нелегальной жизни искус,кружки и типографский запашок, – вдоль холода реки — там стыд парадныхприкрыт дверей прихлопом, «пропадиты пропадом!» кричат в родныхкраях, не уступив ни пяди жилплощади, то из тюрьмы на звуквзлетит Трезини, ангелом трубя,собор в оборках, первоклассник азбук,закладки улучённый миг тебя.

147стихи-II
ЦПКиО
Алёне и Льву Рейтблат
ЦПКиО, втоскуюсь в звук, в цепочку –кто — Кио? Куни? — крутят диски цифр –в цепочку звука, в крошечную почвуконсервной рыболовства банки «сайр» – (мерещь себя, черёмуха, впотьмах,сирень, дворы собой переслади, –жизнь — это Бог, в растительных сетяхзапутавшийся, к смерти по пути), – перемноженье шестизначных гидр,в уме, в своём уме, о, на открытом,о, воздухе, о, лабиринты игр,о, фонари Крестовского над Критом, центральный парк, овчарки сильных лапопаловые полукружья,и небу над Невой преподнесённый залпбукета фейерверка из оружья, палёным пороха пахнёт хвостом,все рыбаки всех корюшек, все лески,дохнёт вода газетой, под мостомменяя шрифт и медля в тяжком блеске, и вновь гигантские перенесут шагина острова колёс прозрачных обозренья,и вот на воинства бегущих крон мешкинабросит ночь, и сон-столпотворенье завертит диски, и на них — циклопа огорящем глазе — бросит фокусника детства,гаси арены циркульной соседство и на цепочку звук замкни: ЦПКиО.

148Владимир Гандельсман
РОМАНС
Ах как уютно,ах как спиваться уютно.
Тихо спиваться, совсем без скандала.Нет, не прилюдно,
нет, ни за что не прилюдно.Истина, вот я! Что, милая, не ожидала?
Ах, покосится,ах, этот мир покосится.
Что там синеет, окно наряжая?Что-то из ситца,
что-то такое из ситца.Небо — от Бога. Я вместе их воображаю.
Ах как не жалко,ах как легко и не жалко!
В петельке дыма, как будто в петлице,тает фиалка!
Благоухает фиалка.Ах, закурив, улетаю к небеснейшей птице.
Оскар с Марселем,Оскар летает с Марселем
там темнооким, в цилиндре и с тростью.Тянет апрелем,
искренним тянет апрелем,зеленоватой, едва завязавшейся гроздью.
Взоры возвысьте,до небыванья возвысьте!
Лёгкие, мы забрели в эти высине из корысти,
как птичьи не из корыстительца пульсируют, птичьи, и рыбьи, и лисьи.
Ах, виноградник,зрей, мой лиса-виноградник!
Ведь тяжелит только то, что порочно.Огненный ратник,
целься в счастливого, ратник,в лёгкого целься, без устали, ласково, точно.

149стихи-II
***
Мать жарит яичницуна кухне. Подъём.Лицо твое тычетсяв подушку. Всплакнём. Всплакнём, моя мамочка.Зима и завод.У жизни есть лямочка.В семье есть урод. То лампы неоновойрасплыв на снегу,то шубы мутоновойзабыть не могу. Фреза это вертится,с тех пор и не сплю,цеха это светятся,с тех пор и люблю, когда обесточенои спяще жильё.К чему приуроченорожденье моё? Всплакнём, моя мамочка.В часах есть завод.У щёчки есть ямочка.«На выход!», зовёт. Прижмись, что ли, к инеюна чёрном стекле.Мать гнёт свою линию,покоясь в земле.

150Владимир Гандельсман
НА ВЕСАХ
А пока на весах я стою,на клеёнке белесой,взвешиванье воспою,гирьку противовеса, капли влаги на стенахсклизких и вдалекекарту мира в растленныхпятнах на потолке, буду точен, как жизнь,чтобы два в равновесьебелых клюва сошлисьна весах, — вот он, весь я, воспою переходв банное отделенье, –холод горько пахнёти окна полыхнёт воспаленье, плавай, мыльница, там,в море круглом,а покуда к ноздрямпридымится всем углем эпос трюмов, снастей,парусины прогретой,тросов, торсов, страстей,тьмы запретной. Поле дымное брани,шайки неандертальцев,ямки, выпаренные после бани,на подушечках пальцев.

151стихи-II
КОСНОЯЗЫЧНАЯ БАЛЛАДА
Я этим текстом выйду на угол,потом пойду вдали по улице, — так я отвечу на тоски укол,но ничего не отразится на моём лице. Со временем ведь время выветритменя, а текст ещё уставитсяна небо, и слезинки вытрет видсырой, и в яркости пребудет виться. Он остановится у рыбного,где краб карабкает аквариумс повязкой на клешне, и на негопохожий клерк в другом окне угрюм. А дальше нищий, или лучше — комтряпья спит на земле, ничем храним, новорождённым спит покойником,и оторопь листвы над ним. Жизнь, всё забыв, уходит заживона то, чтобы себя поддерживать,и только сна закладка замшевосухую «смерть» велит затверживать. Прощай, мой текст, мне спать положено,постелено, а ты давай идии с голубями чуть поклюй пшено,живи, меня освободи.

152Владимир Гандельсман
ИЛИАДА. ДВОЙНОЙ СОН
Григорию Стариковскому
В сон дневной уклонясь
благотворный,на диване в завешенной
комнате,где забвения краткого угли насгреют, и предстаёт жизнь иной
и бесспорной, –
там проснуться как разранним летом,
внутри сна, на каникулах,двор в окне –
его держит полукругом каркаслип, и мальчиков видеть в бликах,
в дне нагретом.
Солнце видеть во сне,копьеносных,
кудреглавых и вымершихвоинов,
спи всё дальше и дальше, и ревностнейубаюкивай себя в виршах
перекрёстных.
Лук лоснится, стрела,перочинный
ножик всласть снимает кору,десятый
год осады мира тобой, и светланеудвоенной жизни пора,
беспричинной.
Сладко спи под морскойшум немолчный,
покрывалом укрытаяшёлковым
жизнь, не ведающая тоски мирской.Длись, золотистость игры тая,
сон солнечный.

153стихи-II
Там Елена твоя,с вышиваньем,
за высокой стеной сидит,юная,
и в душе твоей ещё невнятная,но — звучит струна, своим грозит
выживаньем.
Или лучше, чем явь,краткосмертный
сон? — одно дыханье сулишьчистое.
Облака только по небу и стремглавь,доноси эхо ахеян лишь,
голос мерный.
Вечереющий деньещё будет,
не дождёшься ещё своихродичей
сердцем, падающим что ни шаг, как тень.Пусть вернутся домой, пусть живых
явь не будит.
В летней комнате тишь,пол прохладный,
тенелиственных сот стена,Елена
снится комнате, шелест в одной из ниш –то покров великий ткёт она
и двускладный.
Ты на нём прочитайрифмой взятый
в окруженье текст сверху вниз:трусливо
девять строф проспал ты, теперь начинайбесстрашью учиться и проснись
на десятой.

154Владимир Гандельсман
ПОЛИГРАФМАШ
Завод «Полиграфмаш», циклопийтвой страшный, полифем, твой глазгорит, твой циферблат средь копейгорит зимы.Я в проходной, я предъявляю пропуски, через турникет валясь,вдыхаю ночь и гарь — бедро, лязг, –валясь впотьмы. Вот сумрачный народ тулупийсо мной бок о бок, маслянистрастоптанный поодаль вкупес тавотом снег,цехов сцепления и вагонеток,лежит сталелитейный лист,и синим сварка взглядом — огнь, ток, –окинет брег. Слесарный, фрезерный, токарный,ты заусенчат и шершав,завод «Полиграфмаш», — угарныйсостав да хворь –посадки с допусками — словаря, — вот,смотри, как беспробудно ржав,сжав кулачки, сверлом буравит,исчадье горь. Спивайся, полифем, суспензийс лихвой, и масел, и олиф,резцом я выжгу глаз твой пёсий,то жёлтый, тогнойно-зелёный, пей, резец заточен,он победитовый, пей, скиф.Людоубийца, ты непрочен.Я есть Никто. Завод «Полиграфмаш», сквозь стенынепроходимые, когдапод трубный окончанья сменысирены вой

155стихи-II
ты лыко не вязал спьяна, незрячий,я выводил стихов стада, вцепившись в слов испод горячийи корневой.

156Владимир Гандельсман
В СТОРОНУ ДЗЕРЖИНСКОГО САДА
Льву Дановскому
По-балетному зыбки штрихина чахоточном небе весеннем.Где то время, в котором стихисплошь казались везеньем? Где Дзержинский? Истории ветрсдул его с постамента. О, скорый!Феликс, Феликс, мой арифмометр,мой Эдмундович хворый. Мы с тобой по проспекту идёммежду волком такси и собакойалкаша. Дело к мартовским идам.Ида? Что-то не помню такой. Где Дзержинский? Решётка и ржа.Глазированные в молочноместь сырки, златозуба кассирша.Отражайся в витрине плащом. Мы идём с тобой мимо реальныхсоплеменников, рифма легконам подыгрывает с мемориальныхдосок — вот: архитектор Щуко. Мы с тобой — те, кто станет потомнашей памятью, мы с тобой повод,чтобы время обратнейшим ходомшло в стихи по поверхности вод. Вот и пруд. Так ловись же, щуко,и дзержись на крючке, чтобы идас леденцами за бледной щекойрозовела в прекрасности вида. Чтобы северный ветер серовнас не стёр, не развеял, стоящиху моста, за которым есть остров,нас, ещё настоящих.

157стихи-II
МОТИВ
Лампу выключить, мгновеньядня мелькнут под потолком.Серый страх исчезновеньямне доподлинно знаком. В доме, заживо померкшем,так измучиться душе,чтоб завидовать умершим,страх осилившим уже. День, как тело, обезболить,всё забыть, вдохнуть покой,чтоб вот так себе позволитьстих невзрачный, никакой.

158Владимир Гандельсман
***
День дожизненный безделья,солнце лишнее пылит,слабость райская, апрелья,золотые кегли, келья,горло медленно болит, спит растенье, не проснётся,но, затеплясь у корнейи взветвясь, огонь займётся,я не знал, что обернётсяжизнь привязанностью к ней, что, дыханием согрета,по углам себя тая,как дворцовая карета,ахнет комната от света,незнакомната твоя, что душа, как гость, нагрянет,наделит собой жильё,что под вечер жизнь устанетжить, что вовсе перестанет,что обыщешься её, что, сойдясь в едином слове,смерть и жизнь звучат: смежи, –и заснёшь, и будет вновена движенье смежной кровине откликнуться в тиши.

159стихи-II
В ПОЕЗДЕ
Как тянутся часы ночные,какое время неблагое,и лица блёклые, мучные,и всё на свете — Бологое. Как будто пали в общей битве(и пробуют опять слететься)за наволочку, простыни двеи вафельное полотенце. Как будто в узком коридорелиц нехорошее скопленье,и вот — униженность во взоре,готовая на оскорбленье. Задвинь тяжёлую, не надо,пусть в глуби зеркала, нерезко,лежит полоска рафинадав соседстве с ложкой полублеска, пусть, тронутое серой линькой,заглянет дерево со склонав колеблющийся чай с кислинкойблагословенного лимона. И поднеси стакан, не прячапознания печальный опыт,почувствовав его горячийи приближающийся обод: откуда знать тебе, кого тына полустанке присоседишь,и что задумали длинноты,и вообще куда ты едешь.

160Владимир Гандельсман
С ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО
Листья мети, человек,листья мети, безъязыкий,где-то ты мальчик и, ловок,скачешь верхом за рекой, на деревянном конескачешь, и вырастешь странно,будешь мести в заоконьезолото дальней страны, ты и в костюме женихна фотографиях, ты ис ветром за листья в сраженьяхдни коротаешь свои, этих людей ещё какзвали? — папаша с мамашей, щёлкал костлявый на счётах,словно выщёлкивал вшей, грузная мыла полы,юбка её колыхалась,листья мети, невесёлый,осени чистую грязь, после под лестницей сядь,двор наклонившийся залитсветом, и вычти все десятьили одиннадцать лет.

161стихи-II
В БЛОКНОТ
В сереньком тихом пальтодождик, как мышкин, идёт.Что это значит? А то.Мимо стоит идиот. Булочку с маком жуёт,пищевареньем живёт. Ноль-вероятность прийтив мир человеком-собой.Стой, идиот, на путиглубокомыслия. Стой. Наискосок перейдуя перекресток и весьв мнимую область вон тувыйду не-мной и не-здесь.

162Владимир Гандельсман
ОБХОД С ДОСТОЕВСКИМ
Сюда, сюда, пожалуйте-с, прошу-с,составьте честь, а зонтичек, а мокро-с,что затоптались? борет грозный образ?ну, наконец-то-с, эх, святая Русьвсех примет, незадирчиво раздобрясь. Здесь Болдесовы, любят трепеща-ссредь нестерпимой ненависти-с, ручку,прыг-прыг, ловчее, вишь ты, сбились в кучку,невемо, что приспичило сейчас, –вчера весь вечер трогали получку. Не знаю-с, право, с чем сопоставимстиль Бандышей, да вы бочком, мостками, я извиняюсь вам, погрязли в сраме,валяются всю ночь по мостовыми хрюкают. Дощупывайтесь сами. Зато у генеральши пол натёрт-си всё блестит-с, Утробину-паскудешампанское несут и фрукт на блюде,а то ещё закажут в «Норде» торт-с, –военно-эстетические люди! Пожалуйте-с, сюда, здесь топкий пруд,а мы перепорхнём-с, не в месте вырыт,народец — гнусь, тот в шляпе, этот выбрит, –а всё одно: ладошками сплеснут,да хохотнут, да что-нибудь притибрят. Но веруют — я без обиняков –изряднейше: Ярыгин, этот в церковьбежит, чтобы прожить не исковеркавдуши, с ним Варначёв и Буйняков, –и все метр пятьдесят, из недомерков. Народ наш богоносец, новый сбродлюдей, как говорится, впрочем, есть имошенники, которые без чести,с препонами, но в целом-то народ,могу по пунктам-с, тих, как при аресте.

163стихи-II
А вместе с тем — и крайний по страстям,Туныгины относятся к тем типам,что плачут врыд, хохочут — так с захлипом,чуть что — за нож, держитесь, где вы там?по праздникам страдают недосыпом. Для благоденствий совести — кружки,где люди образованные; к власти-с,когда возьмут с поличным, льня и ластясьживут, а так — с презреньем, и стишкипописывают вольные, несчастье-с. Игонины, Гопеевы, подчасвсех не припомню-с, кладезь, исполины,хоть вполпьяна и стужею палимы,и сплошь позор, и плесень, но игра-сприроды гениальная. Пришли мы. Не вечно же плутать, хоть чудо — Русь,среди распутиц этих и распятьиц,ну что ли, до приятнейшего, братец, для вас уже просторная, смотрю-с, готова клетка с видом на закатец.

164Владимир Гандельсман
ЗАБОЛОЦКИЙ В «ОВОЩНОМ»
Людей явленье в чистом воздухея вижу, стоя в «Овощном»,в открытом ящиковом роздыхеморкови розовые гвоздики,петрушки связанные хвостикилопочут о труде ручном.
И мексиканцев труд приземистыйшуршит в рядах туда-сюда,ярко-зелёный лай заливистыйсалата, мелкий штрих прерывистыйукропа, рядом полукриво стойи выбирай плоды труда.
И любознательные крутятсялюдей зеркальные зрачки,а в них то шарики, то прутьица,то кабачок цилиндром сбудется,и в сетках лаковые грудятся и репчатые кулаки.
Людей явленье среди осени!Их притяжение к плодаммогло б изящней быть, но особиживут не думая о способеизящества, и роет россыпис остервенением мадам.
То огурец откинет, брезгуя,то смерит взглядом помидор.Изображенье жизни резкоеи грубоватое, но вескаякисть винограда помнит детское:ладони сборщика узор.
Чтоб с лёгкостью уйти, старенияили страдания страдазадуманы, и тень творениястоль внятна: зло и озверение...Но испытанье счастьем зрения?Безнравственная красота.

165стихи-II
ЛИРИКА
Валерию Черешне
Жаль будет расставаться с белым,боюсь, до боли,с лицом аллеи опустелым,со снегом, шепчущим: «постелим,постелим, что ли». Летит к земле немой образчиклюбви, с исподанебес, всей нежностью пылящих,летит, как прах с подошв ходящихпо небосводу. Родительница и родительмои там ходят,и Бог, как друг в стихах увидел,дарует тихую обитель.С ума не сводит. К ним никогда придти не поздно,не рано, нервноне выйдут в коридор и грозноне глянут. Высвечено, звёздно,неимоверно. Жаль только расставаться с белым,пусть там белее,с неумолимой рифмой: с телом,с древесной гарью, с прокоптелымлицом аллеи. И мудрость тоже знает жалостьи смотрит мимособлазна жить, на эту малость,на жизнь, которой не осталосьнепостижимо.
2000–2003 гг.

запасные книжки
часть вторая: человек отрывков

167запасные книжки. часть вторая: человек отрывков
***Один говорит: «Я пишу мало, не то что вы», имея в виду: «зато хорошо».
***Ной выпускает голубя: «...и выпустил голубя; и он уже не возвратился к нему». Он вернулся в Новом завете: «...увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него».
***Книга критики: «Желчные пузыри земли» с эпиграфом «Сестра моя желчь — и сегодня в разливе».
***Соблюдение прав человека создаёт больший шум, чем возмущение по поводу их несоблюдения и борьба за них. (В нью-йоркском метро.)
***Из стихов Кузмина ясно, что он ни с одним человеком не был связан. И не только с человеком, — ни с чем. В его вещах нет чувства тяготения к чему бы то ни было. Зато — прелестные (прельщающие, соблазняющие, женственные). Но в дневниках всё по-другому.
***Р. слишком любит жить, чтобы жить достойно.
***Одна из самых поразительных встреч в литературе всех времён — встреча Петра Степановича Верховенского с Кирилловым перед самоубийством последнего, — беса низости с бесом духовности. Мелкость сквозной мыс-лишки Верховенского: застрелится он или нет? — и крупность вызова Кириллова: Бог я или не Бог? (– Если бог есть, то вся воля его, и из воли его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие. — Своеволие? А почему обязаны? — Потому что вся воля стала моя. Неужели никто на всей планете, кончив бога и уверовав в своеволие, не осмелится заявить своеволие, в самом полном пункте? <...> Я обязан себя застрелить, потому что самый полный пункт моего своеволия — это убить себя самому. — Да ведь не один же вы себя убиваете: много самоубийц. — С причиною. Но безо всякой причи-ны, а только для своеволия — один я. «Не застрелится», — мелькнуло опять у П.С.) И — гениальный ход-подстрекательство П.С.:– Знаете что, я бы на вашем месте, чтобы показать своеволие, убил кого-нибудь другого, а не себя. Полезным могли бы стать. Я укажу кого, если не испугаетесь. Тогда, пожалуй, и не стреляйтесь сегодня. Можно сговориться.

168Владимир Гандельсман
– Убить другого будет самым низким пунктом моего своеволия, и в этом весь ты. Я не ты: я хочу высший пункт и себя убью.Люди своевольничают с краю, а я по центру, — хочет сказать Кириллов.
Мелкая идеология палача питается возвышенной идеологией жертвы (ему ведь необходимо самоубийство К-ва; питается; вообще, П.С. часто и с удовольствием ест в ответственные минуты — минуты перед убий-ством), а жертва питается низостью палача (ты совершаешь своё из низ-ких, а я своё — из высоких побуждений, потому и совершу).И всё же оба совершают это не из «взаимных» соображений, а из личной выгоды; Верховенскому — замести следы, все смерти, и прокламации, и пр., свалив на Кириллова, а Кириллову — доказать, что он свободен от Бога, что он Бог.Потому их схватка фиктивна; они нужны друг другу, но как бы их разго-вор ни повернулся, произойдет то, что должно произойти.В непостижимости этой сцены как будто доказано существование Верховной Силы, столь отрицаемой и тем и другим.
***Профессорская жизнь — это сытая послеобеденная зевота в пыльном кабинете.
***Десять часов — ещё ничего, но пол-одиннадцатого — уже поздно.
***«На свете счастья нет, но есть покой и воля» подразумевает обратное: счастье есть, но оно состояние не духовное, а потому его нет. Покоя и воли нет, но это единственно духовная реальность, потому они есть.
***Я бы сошёл с ума, но не хочу пошлости.
***Состояние больного, когда в его присутствии о нём говорят в третьем лице. Это делается не намеренно, и интуиция, которая позволяет нам эту «вольность», на самом деле знает: он не здесь. По крайней мере, отчасти не здесь.
***Как юный поэт, которому нестерпимо плохо (хотя никакой уж такой любовной драмы нет), находит для этого слова (столь же плохие, но — находит!), поскольку у него преизбыток сил при полном незнании жизни, а тем более законов искусства, – так поэт престарелый слов не

169запасные книжки. часть вторая: человек отрывков
находит, потому что знает, что истинное воплощение требует страдание превозмочь, а значит, испытать его словно бы вдвойне и выйти за его пре-делы, туда, где мычание или банальность пресуществляются в поэзию, — потому что он знает не только это, но и то, что у него нет сил («...но силы, силы отняты при этом» — из стих-ия В. Черешни, посвящённого Вяземскому).
***Иногда кажется, что Пруст не сумел одолеть «правила приличия», навя-занные временем: в «Любви Свана» столь не договорена грубость, будь то грубость слов или положений. Лишь упоминания о том, что она возмож-на. Но с ней, вероятно, исчезло бы то, что Пруст называет «очарованием затаённой грусти», говоря о короткой фразе в сонате Вентейля: «Очарование затаённой грусти — вот что пыталась она воспроизвести, воссоздать, вплоть до самой его сущности, хотя сущность эта обычно непередаваема и представляется легковесной всем, кто её не изведал...»
***Комплекс нарушения табу. Человек, всё время переходящий границу и в момент перехода делающий в штанишки, испытывая при этом несказан-ное удовольствие. В детстве ему говорили: «Не порть воздух, не ковыряй в носу», а он — назло. Сегодня так существуют многие литераторы.
***Пушкин в «Элегии» (1830):
«Мой путь уныл. Сулит мне труд и гореГрядущего волнуемое море...»,
и концовка:«И может быть — на мой закат печальныйблеснёт любовь улыбкою прощальной».
Через 26 лет Некрасов в «Последних элегиях»:
«Душа мрачна, мечты мои унылы,Грядущее рисуется темно...»,
чуть дальше:«...А рано смерть идёт,И жизни жаль мучительно...»,
и безнадёжное завершение на слове «могила».
Ещё через 24 года ответ Фета Некрасову в знаменитом четверостишии из «А.Л. Бржеской»:

170Владимир Гандельсман
«Не жизни жаль с томительным дыханьем,Что жизнь и смерть? А жаль того огня,Что просиял над целым мирозданьем,И в ночь идёт, и плачет, уходя».
***Неужели те, в кого я вложил душу, не вернут деньгами?
***Лучшее название для книги переводной поэзии: «Не переводя дыхания».
***Ко всему сказанному о блоковской поэме «Двенадцать» (в частности, в «Знамени» № 11, 2000, где разные литераторы объясняют, почему «впере-ди Исус Христос») добавлю следующее. Одна из тем поэмы — тема преда-тельства. Петруха предаёт свою любовь, Катьку. Следует помнить об отре-чении Петра и о встрече Христа Спасителя с апостолом Петром после Воскресения Христова. В этой встрече Христос не укоряет предавшего, но трижды спрашивает, любит ли Пётр Его больше, чем друг любит друга, больше, чем остальные любят Его. И получает ответ: «Да». Сознаёшь ли ты, словно бы говорит Иисус, что тебе должно проститься больше, чем кому-то ещё, и смотрит в сердце человека, видя в нём любовь и прощая малодушие и слабость. Здесь, в Петре-предателе и в Петрухе-убийце, должно произойти преображение, — в том, кто не задаёт интеллектуаль-ных вопросов, по какую сторону от Бога — одесную или ошуюю — они расположатся на небесах, но кто принимает в себя смертность Христа-человека, Его богооставленность на кресте. Ничего, кроме крестного пути, Христос и не обещает. И второе: начиная с Воплощения, Бог не сторонний наблюдатель истории человечества, указующий, дающий закон и т. д., но Тот, Кто стоит в серд-цевине исторического процесса, в данном случае — одного из главных событий ХХ века.(Интересно замечание Б. Парамонова: «Последняя попытка Достоевского дать Христа — и попытка, обещавшая удаться, — Алёша Карамазов, в каковом благолепном иноке окружающие всё-таки видят бесёнка. Достоевским гениально был задуман второй том “Карамазовых”, в кото-ром Алёша должен был стать террористом и кончить жизнь на эшафоте — этой русской Голгофе. Из этой феноменологии христианства у Достоевского вырос Христос “Двенадцати”, предводительствующий крас-ногвардейцами. Люди, недоумевавшие по поводу Христа в поэме Блока, похоже, забыли о Достоевском»).
***Переписывать дневник Кафки в свой дневник...

171запасные книжки. часть вторая: человек отрывков
***Стоит писать только о том, чего ещё не знаешь, и так, как не умеешь. (Кафка в письме к Фелиции приводит слова Наполеона: «Недалеко пой-дет тот, кто с самого начала знает, куда идти»).
***С японского:
Измена
«Уезжаю в командировку». –«Оденься потеплее, — говорит жена. –На улице ветрено».
***Боже, как я опередил время! (Но какое неприятное слово «опередил».)
***Парадокс попрошайничает. Другими словами — противен, потому что на себя напрашивается. Абсурдность заявления — имитация мысли.
***Подвиг совершается, если между движением души (всегда героическим, в силу благородства происхождения) и действием нет паузы. В этом смысле гениальные стихи — подвиг. У поэта Щ. — сплошная пауза, которую заполняют различные соображения, и она сродни примерке платья и при-хорашиванью перед зеркалом, когда человек пытается увидеть себя сочув-ственными глазами окружающих.Обаяние безвкусно. Обаяние как высшее проявление холуйства.
***Вчера в книжном магазине покупатель поинтересовался, нет ли книги «юлькин аромат» — так он запомнил некое сочетание смысла и звука. Оказалось, что ему нужен Зюскинд — «Парфюмер».
***В послесловии к книге Кафки прочёл, что он «умер в связи с ухудшением здоровья».
Яноух цитирует женщину, убиравшую напоследок кабинет Кафки:«Доктор Кафка исчез тихо и незаметно, как мышка. Как все эти годы жил там, в этом страховом обществе, так и исчез. <...> А доктор-то Тремль, который смотрел, как я убирала, и говорит мне: «Уберите, — говорит, — отсюда эти черепки!» Слишком похоже на финал «Превращения».

172Владимир Гандельсман
***Фамусов так не любил книги, что предчувствовал и предсказал (без малей-шего удовольствия) появление русской поэтессы: «Ах, матушка, не довер-шай удара».
***В книге В. Глоцера «Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс» приведён протокол обыска в квартире Хармса перед его арестом. Фамилии тех, кто это делал: Янюк и Безпашнин, в присутствии домработника Кильдеева Ибрагима и понятого лица Шакиржановича, — фамилии, пришедшие несомненно из произведений Даниила Ивановича. («Халдеев, Налдеев и Пепермалдеев...») (Недавно нашёл своё наблюдение в одной книге; но, не претендуя на открытия, запись оставляю.)
***Если сейчас, то редко, а если теперь, то не часто.
***Условия игры таковы, что ни Пенелопа, ни Лаэрт не узнают голоса Одиссея.
Одиссей несомненно соврал, что ему вновь надо в странствие. Просто жизнь с той же подругой после двадцати лет отсутствия невозможна (как бывало у лагерников).
***Можно ли заниматься спортом неискренне?
***На выставке Вермеера. Лица его девушек-юношей немного «олигофрен-ны» (соотношение линии рта, кончика носа и уголков глаз). Они пульси-руют на грани расставания с нормальностью, как будто прощаются с собой, и потому находятся в таком выразительном сиянии.
***Спрос, конечно, определяет предложение, но не это.
***Отрывок из несуществующего письма Рильке:
«<...> В пятницу, часов в шесть я начал читать Книгу и взглянул на часы в девять, прервавшись на следующем знаменательном месте:

173запасные книжки. часть вторая: человек отрывков
“Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого:И померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине.Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И сие сказав, испустил дух”.Я и не заметил, что всё это время темнело и шёл дождь. И вдруг мне пока-залось, что совпадение, которое всегда под рукой и навязывает себя в закадычные и единственные друзья, лишь заурядный (потому и незамет-ный!) способ обратить моё внимание на суть вещей.Не правда ли, всё мгновенно удвоилось и себя переросло? Если не утрои-лось, не удесятерилось. Взять хоть солнце, которое померкло в тексте один раз, а затем с воплем Христа повторно, и за моим окном с ним тво-рилось то же самое. Но ведь без Книги я бы ничего не увидел! Книга стала заоконным пространством, безграничным в черноте ночи, настолько безграничным, что должно было вернуться звездой Рождества к её началу.Впрочем, вот более внятный итог этого дня:
За Книгой
Я зачитался, я читал давно,с тех пор как дождь пошёл хлестать в окно.Весь с головою в чтение уйдя,не слышал я дождя.
Я вглядывался в строки, как в морщинызадумчивости, и часы подрядстояло время или шло назад.Как вдруг я вижу, краскою карминнойв них набрано: закат, закат, закат...Как нитки ожерелья, строки рвутся,и буквы катятся куда хотят.Я знаю, солнце, покидая сад,должно ещё раз оглянутьсяиз-за охваченных зарёй оград.
А вот как будто ночь по всем приметам.Деревья жмутся по краям дорог,и люди собираются в кружоки тихо рассуждают, каждый слогдороже золота ценя при этом.
И если я от Книги подымуглаза и за окно уставлюсь взглядом,

174Владимир Гандельсман
как будет близко всё, как станет рядом,сродни и впору сердцу моему!
Но надо глубже вжиться в полутьмуи глаз приноровить к ночным громадам,и я увижу, что земле малаоколица, она переросласебя и стала больше небосвода,а крайняя звезда в конце села — как свет в последнем домике прихода. <...>»
(От автора публикации: в сочинениях Рильке «книга» печатается со строч-ной буквы; ошибочно, если принять во внимание приведённое письмо.)
***Бездарность — это порок.
***Удивительное понимание скорости в «Илиаде»: Гера «бросилась с Иды горы, устремляяся быстро к Олимпу. Так устремляется мысль человека...»
***Читая Введенского. Слова не выдерживают бессмыслицы. Видишь, как поэт, поставивший себе явную задачу удержаться в абсурде, срывается в логику и разум. Вообще произнести что-либо совершенно бессмысленное почти невоз-можно из-за мистического сопротивления самих слов. Не говорит ли это о том, что Замысел есть?
***Странные двойчатки Платонова: вспомнил мысль, вообразил воспомина-ние, с равнодушной нежностью, преждевременное сочувствие (самим себе, потому что каждому придётся умереть), от неизвестной совести (неизвестно откуда взявшейся), притерпевшееся отчаяние, негромкое издевательство, впечатлительные чувства, наслаждающийся скрежет (ног-тей по вшивому телу), (пошёл) на отвыкших ногах, (нашёл деревню) в действующем овраге, (строй звёзд) нёс свой стерегущий труд, забываю-щаяся сосредоточенность, устающая тишина, волокущаяся судьба (в смысле: досадная, не знающая себя), слабое лицо, воображающие глаза (человек с воображением), умственное прозрение, товарищеское тело человека, безвыходное небо («заволоченное тучами безвыходное небо»), с твёрдой кротостью, грустное озлобление и т. д. и т. п. Как это работает? Например: «...он вошёл на двор того приблизительного дома, где должен был жить Шумилин...» Схвачено два смысла: а) дом,

175запасные книжки. часть вторая: человек отрывков
выглядящий лишь приблизительно как дом; б) неуверенность Дванова в том, что это дом Шумилина.Вроде бы неграмотная речь простолюдина, обстоятельного и неказисто-го, — и отсюда обаяние и пронзительность, — а в то же время речь «сверх-грамотная», потому что многозначная. Речь работает одновременно на персонажа и на автора.
Другое средство — тоже «дебильное» — бесконечные дополнения, добав-ки, которые как будто не нужны. «Поезд промчался с воем колёс». Достаточно было бы и без «колёс». То же самое: «...умер от старости лет». «Копенкин рассмотрел всего человека в целом». Добавка идёт — от чего? от смущения? — ведь вот, мол, говорю простую банальнейшую вещь, такое и написать стыдно; потому добавляю ещё одну очевидность, от неловко-сти и чувства иронии над собой. У читателя же — встречное чувство сим-патии, сочувствие. И другое объяснение, которое приводит в ответ на мои соображения В. Черешня: «По теории информации избыточность вводится для того, чтобы помехи не могли безнадёжно исказить её, избыточность помо-гает восстановить утраченное. Думаю, эстетическая функция избыточности у Платонова примерно та же: подтверждение ощущения, его вколачивание в непривычную к чувствительности душу, поскольку помехи на пути к ней, дей-ствительно, велики. Конечно, это не объясняет, почему только у Платонова это косноязычное дублирование выглядит органичным».
– Откуда ты такой явился? — спросил Гопнер.– Из коммунизма. Слыхал такой пункт? — ответил прибывший человек.– Деревня, что ль, такая в память будущего есть? «В память будущего» — время, вывернутое наизнанку.Или: «...в Чевенгуре имелось окончательное развитие коммунизма...»Как может быть «окончательное развитие»?Или: кто-то говорит «текущий момент» и удивляется: момент, а течёт!Копенкин: «Революционная масса сама может успокоиться, когда поднимет-ся!» Как можно успокоиться, поднявшись?Платонов создаёт абсурдные смыслы. Вот именно смыслы и именно абсурдные.Не просто абсурд обэриутов или дадаистов и пр., но куда интереснее и глубже.В память будущего — будущее, которое ещё не наступило, но уже умерло.Два слова вмещают в себя Историю.
Сцена убийства-расстрела буржуев в Чевенгуре. Совершенно новое. Убивают с ласковостью. Из пепла «умышленных» бесов Достоевского, уби-вавших со страхом и ненавистью, восстали бесы неведения. Ласковые бесы.«Буржуев в Чевенгуре перебили прочно, честно, и даже загробная жизнь их не могла порадовать, потому что после тела у них была расстреляна душа».

176Владимир Гандельсман
Чепурный, уговаривая перебить, говорит Пиюсе, председателю чрезвы-чайки: «Ты понимаешь — это будет добрей!» Именно — добрей.Прокофий предложил объявить второе пришествие и на основе «ихнего же предрассудка» их истребить. «В конце приказа указывался срок второго пришествия, которое в организованном безболезненном порядке уведёт бур-жуазию в загробную жизнь».
***Искусство афоризма особенно удаётся мизантропам.
***Вера есть у всех. Иначе невозможно было бы ступить ни шагу. «Неверующие» об этом просто не знают, отсюда уродливые признания, вроде: я верующий, но не религиозный и пр.
***Бронкс. Старушка на прогулке с пожилым сыном. Вдруг, как раз проходя мимо меня, он говорит ей: «А помнишь, как в сарае тебе на голову вывар-ка упала?»Таково щемящее воспоминание о жизни, прожитой где-то, судя по акцен-ту, на юге России.
***Воспоминание — это способ забыть всё остальное.
***Стихотворение Н. Заболоцкого: «Вчера, о смерти размышляя...»Строки: «...всё, всё услышал я — и трав вечерних пенье, / и речь воды, и камня мёртвый крик», — напоминают мгновенно пушкинские: «...и гор-дый внук славян, и финн, и ныне дикий / тунгус, и друг степей калмык». Напоминают синтаксически и рифмой.В следующей строфе «и мысли мертвецов прозрачными столбами / вокруг меня вставали до небес» указуют неизбежно на Александрийский столп, и далее уже впрямую: «И голос Пушкина был над листвою слышен...»Связь с «Памятником» и в одинаковом количестве строф (5), и в том, что стихи разделяет ровно 100 лет (1836 — 1936).И, конечно, по сути.Пушкин говорит о своём бессмертии: «Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой, / и назовёт меня всяк сущий в ней язык...»Заболоцкий, в котором предсказание Пушкина сбылось, ощущает бессмер-тие совсем иначе: не его услышат, но он слышит: «всё, всё услышал я...»
***В эссе Борхеса приводится этимология слова «кошмар».

177запасные книжки. часть вторая: человек отрывков
Наиболее глубокой Борхесу кажется английское «nightmare», буквально — «ночная кобыла» (французское «cauchemar» — связано с английским). Шекспир: «I met the night mare» — «Я встретил кобылу ночи».В точности то же самое происходит с Евгением в «Медном всаднике».Если кошмар как разновидность сна — это некое раздвоение личности, вообще — удвоение (так описывает свои кошмары Борхес, всегда связан-ные с лабиринтом или зеркалами; особенно интересно, когда он видит свое отражение в зеркале, но это отражение в маске, и он боится её снять: там может оказаться что-то страшное, — скажем, лицо, поражённое про-казой и т. д.), то:Евгений, в конце первой части, «без шляпы, руки сжав крестом, сидел недвижный...» верхом на льве и — главное — «он страшился, бедный, не за себя», и Пётр, в конце второй, «с простёртою рукою сидел на бронзо-вом коне», — тот, «чьей волей роковой под морем город основался...»Видит ли Евгений своё «отражение в маске»?Есть удвоение эпитета:Евгений, проснувшись и вспомнив «прошлый ужас», «вокруг тихонько стал водить очами», а затем через пару десятков строк увидел Петра, чьё «лицо тихонько обращалось».Кроме того, эти погоня и преследование Евгения — возможно, продолже-ние сна, хотя Пушкин и говорит: «Бедняк проснулся». Впрочем, не столь важно, продолжение ли это сна во сне или безумие (важна возможность раздвоения).Встречается ли Евгений с собой в образе Петра? Ясно лишь, что встречается безвольное человечное бесплодие и волевое бесчеловечное созидание. И если второму есть с чем не считаться, то пер-вому есть чего устрашиться и есть что возненавидеть. «Добро, строитель чудотворный! — шепнул он, злобно задрожав, — ужо тебе!..»Там, где Евгений умирает и куда снесло «домишко ветхий», — «не взросло там ни былинки». О домике, смысле всей жизни Евгения: «Был он пуст и весь разрушен».И — Пётр, «обращён к нему спиною, в неколебимой вышине...», и — воз-двигнутый град Петров.
***Современные философы — люди, усиленно создающие проблемы. Принцип: ничего не видеть. Люди мелких сомнений, имитирующие своё существование.Эссе, вроде «Человек в ванной». Лишь бы усомниться: в ванной ли ты? человек ли?
***Читая Мандельштама.«Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник». Возможно, «скво-

178Владимир Гандельсман
решник» возник по ассоциации с историей, рассказанной во второй песне «Илиады», когда дракон пожирает воробьиных птенцов и их мать на дере-ве и прорицатель Калхас предсказывает, что осада Трои будет длиться девять лет (по количеству птичек), а на десятый — город падёт.
«На головах царей божественная пена» — от гомеровских сравнений вои-нов с волнами: «Словно ко брегу гремучему быстрые волны морские <...> — так непрестанно, толпа за толпою, данаев фаланги...» И — след-ственно — от рождающейся из пены морской Афродиты, которая тем более уместна, что в следующей строке появляется Елена.«За гремучую доблесть грядущих веков, / за высокое племя людей — / я лишился и чаши на пире отцов, / и веселья, и чести своей», — разве может послужить доблести грядущих веков лишение чести? Вероятно, М-м помнил слова Кратета: «Родина моя — это Бесчестие и Бедность, неподвластные никакой Удаче, и земляк мой — недоступный для зави-сти Диоген». М-м, пишущий «но не волк я по крови своей», скорее киник (то есть — буквально — пёс; тот, кто ведёт «собачий образ жизни»), Диоген.Помнил М-м и Гераклита: «Век мира — дитя разыгрывает его в настоль-ной игре...»(«... ещё побыть и поиграть с людьми» и этот «век мира»).
***Не случалось ли вам забывать то, что вы сию минуту вспомнили? И имен-но потому забывать, что собирались запомнить?Эта сентенция — подмена приключившемуся со мной «сию минуту».(Позже я набрёл у Г. Иванова: «Я твёрдо решился и тут же забыл, / на что я так твёрдо решился...» А дальше времена ведут себя замечательно арти-стично: «...сначала раскаюсь, потом согрешу...»Ещё позже — у Э.М. Чорана: «С огромным облегчением забыл мысль раньше, чем её понял».)
***По-моему, критики ни к одному из персонажей Гоголя прототип даже и не пытались подыскивать. То есть он писал в чистом виде автобиографиче-скую прозу.Человек — есть величина дутая. (Один из лейтмотивов Гоголя.) Гоголь создал униженную лексику. Затем Достоевский, Розанов...Можно на их неутихающую современность посмотреть и с этой стороны.
***Шекспировский шут — это воплощение творческой гениальности, не хотящей творческого воплощения. Потому шут — укор всем и всему.

179запасные книжки. часть вторая: человек отрывков
***Ожидая знакомого на условленном месте, Т. поймал себя на том, что дела-ет множество движений, иллюстрирующих высматриванье, — движений совершенно лишних и мешающих делу.
***Бытие, глава 28:18, 19, 22. И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником <...> и нарёк имя месту тому Вефиль (т. е. Дом Божий. — Прим. моё) <...> этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим... Иисус Навин, глава 24:23. Итак отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце своё к Господу, Богу Израилеву. <...> 27. И сказал Иисус всему народу: вот, камень сей будет нам свидетелем: ибо он слышал все слова Господа, кото-рые Он говорил с нами; он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Богом вашим.(К названию сборника М-ма «Камень».)
***Перевод — это искусство неточности.
***Г. Иванов мог бы написать стихотворение с таким примерно сюжетом: когда-нибудь, ну, скажем, в 2002 году, в эмигрантской газете некий люби-тель стихов вспомнит о моём дне рождения, о котором сам я бесповорот-но забыл, поскольку к этому времени столь же бесповоротно умер… Этот денёк, располагающий к воспоминанию и цитированию: серенький и безнадёжный, — на стол то и дело садится муха, и бедный любитель, хватаясь за сложенную вчетверо газету, всё отрывается от моих стихов в пользу убийственного порядка. И в этих рассеянных паузах, счастливых для уцелевшей мухи, он бормочет: «Деревья, автомобили, / лягушки в пруду поют. / ...Сегодня меня убили. / Завтра тебя убьют». А кстати, думает он, любое вдохновенное дело, в том числе и чтение сти-хов, значительно прежде всего тем, что от него можно отвлечься, и тогда оно словно бы отбрасывает свет на повседневность и придаёт ему тот смысл, который само, в одиночку, обрести не успевает из-за своей мимо-лётности. И там, в повседневности, мы этот смысл благодарно находим. Разве не так? Так, так, дорогой воспоминатель... Вот только, если бы жить. «Если бы жить... Только бы жить... / Хоть на литейном заводе служить. / Хоть углекопом с тяжёлой киркой, / хоть бур-лаком над Великой рекой...» Случись такое, Георгий Владимирович захо-тел бы немедленно обратно: умереть. Верно, верно пишет сукин сын.

180Владимир Гандельсман
Всё ведь дело в музыке, скажет он. Хотите увидеть, как держатся эти четы-ре строки, по два «л» в каждой? «есЛи бы жить... тоЛько бы жить... / хоть на Литейном заводе сЛужить. / хоть угЛекопом с тяжёЛой киркой, / хоть бурЛаком над веЛикой рекой...» И как симметрично стоят эти литейные опоры над летейскими водами – «о, совсем бессмысленно и всё же неспроста».Конечно... (Что мы имеем в виду, когда в знак согласия говорим «конеч-но»? Пребывание на земле? Конечно.)А дальше там, мой друг, в последней строфе: «Подвернулась музыка: её я запишу».Ты заметил, как она подвернулась?И в этом тоже дело.Оступись — и у тебя на мгновение захватит дух, и тут же подвернётся музыка, — только успей подхватить.Эмигранты, ища пенсне или ключи, — делать-то всё равно нечего! — под-хватывать умеют. «Полу-жалость. Полу-отвращенье. / Полу-память. Полу-ощущенье. / Полу-неизвестно что, / Полы моего пальто...»Забавно, скажет мой читатель, едва ли не каждую строку Иванова можно вынести в заглавие статьи о нём. «Полы моего пальто», «Ну абсолютно ничего!», «Отчаянье я превратил в игру» и так далее, и так далее, но стоит, добавит мой благородный читатель, мне представить критика, с победи-тельным сладострастием и с мясом выдирающего заголовок из текста, как...«Как обидно — чудным даром, / Божьим даром обладать, / зная, что рас-тратишь даром / золотую благодать. / И не только зря растратишь, / жемчуг свиньям раздаря, / но ещё к нему доплатишь / жизнь, погубленную зря».Как Вам угодить, Георгий Владимирович? Я знаю как. Вы столь же высо-комерны и презрительны, сколь я тонок, видя за этим отчаяние, доведён-ное до совершеннейшего обаяния. Интонация — это присутствие голоса здесь и сейчас, это вот, но чтобы вас услышали, возможно, надо совсем отчаяться в том, что вас услышат. И тогда вы обретёте голос с обратной стороны звука, со стороны молчания. Не так ли? Отвечает: «Мне счастье поднесёшь на блюдце / — я выброшу его в окно». Ладно, пишет воспоминатель, я подбирать не буду. Я знаю, как это дела-ется. Знаешь? Ну, валяй. И тогда он угадает моё любимое стихотворение, ради которого я попытаюсь воскреснуть на четверть минуты:
И. О.
Отзовись, кукушечка, яблочко, змеёныш,весточка, царапинка, снежинка, ручеёк.Нежности последыш, нелепости приёмыш,кофе-чае-сахарный потерянный паёк.

181запасные книжки. часть вторая: человек отрывков
Отзовись, очухайся, пошевелись спросонок,в одеяльной одури, в подушечной глуши,белочка, метёлочка, косточка, утёнок,ленточкой, верёвочкой, чулочком задуши.
Отзовись, пожалуйста. Да нет — не отзовётся.Ну и делать нечего. Проживём и так.Из огня да в полымя. Где тонко, там и рвётся.Палочка-стукалочка, полушка-четвертак.
Есть ли здесь тот самый смысл, который обретёт повседневность, когда мы отвлечёмся от этого стихотворения? Разве что уцелеет муха...Думаю, приблизительно так Георгий Иванов бы и закончил.
11 ноября 2002
***«Я писал, что в лампочке — ужас пола» (из стих-ия И. Бродского «Я всегда твердил, что судьба — игра…») — ёмкое определение (не зря и лампочка — ёмкость).Если пол всмотрится в лампочку, он увидит зигзаг паркета (в вольфрамовой спирали), увидит своё знаковое изображение, — есть от чего прийти в ужас.Как если бы человек, всматриваясь в свою наружность, увидел остов, или материк почувствовал, что он остров.От столь пристального взгляда лампочке впору перегореть. Остову — рас-сыпаться. Острову — затонуть.Лампочка — гроб света. Висящий, крошечный, круглый, хрупкий.Пол — горизонтальная прямоугольная плоскость, самоуверенная опора.Пол в лампочке совершает колумбово открытие, и у него перехватывает дух (в углах). И, конечно, выходя взглядом из себя, сплошь тёмного, пол, нарвавшись на лампочку, зажмуривается. Есть в этом что-то от тюремной камеры, от вывода узника на допрос или того хуже... А «того хуже» — это тюремная камера, в которой уже никого нет. При условии, конечно, что никого нет и вовне.Как это часто у Б. — участие человека либо косвенно, либо отменено. Но попытка выхода в другое измерение, в безвоздушное пространство, туда, где нет человека, обречена хотя бы потому, что совершается человеком и остаётся игрой ума, а приметы мёртвого мира начинают немедленно искать нечто одушевлённое — хозяина. «Все эти годы мимо текла река, как морщины в поисках старика».
***Смерть — дело времени. (Следует понимать не как ироничную фразу, но буквально: время творит смерть.)

182Владимир Гандельсман
***Акакий, князь Мышкин. Каллиграфия. («Даосское подвижничество есть своего рода каллиграфия сердца: точное, сосредоточенное и потому обла-дающее художественными качествами выписывание всех душевных дви-жений <...> Тело здесь выступает как необходимая среда, техническое средство реализации “искусства сердца” <...> Телесная практика, соб-ственно, и преследует цель создать условия для беспрепятственной цирку-ляции энергии в организме, что ведёт к просветлению духа». «Молния в сердце», В. Малявин).
***Отец пишет матери с фронта: «Жизнь наша ещё впереди». Странно читать, когда их давно нет.В 1944 году, 15 февраля: «Твоё обещание маме относительно сына я пол-ностью поддерживаю...» Мне (тому, что было мной до того, как стало мной) пришлось ждать почти пять лет.
***Талант человека не может служить оправданием его бездарности.
***Двое молодых людей в кафе: едят и одновременно целуются, переталки-вая жевание изо рта в рот.
***Только гению простительно быть Пастернаком.
***Слышу в очереди:«Бывает, что жалко, что этот человек умрёт, а бывает, что другой не жалко...»
***Неизвестное письмо В. Набокова
В 1972 году мне, тогда 24-летнему молодому человеку, выпала удача про-честь стихи В.В. Набокова. Они меня восхитили, и с помощью того же родственника-дипломата, который мне их привёз, я не только переслал автору своё письмо, но и получил ответ, публикуемый ниже.
«Дорогой и юный друг, тронут Вашим вниманием к моим стихам, пото-му и не удивляйтесь, если нижеследующее покажется Вам словами чело-века, слегка тронутого.

183запасные книжки. часть вторая: человек отрывков
Должен Вас разочаровать: я не только не верю в признание моей поэзии в России, но и предпочёл бы его не иметь.
Первое связано с тем, что счастливых у вас не любят. «Советская власть — это царство множества природных невзрачных людей», — слова не мои, — Платонова, но, поверьте, я догадался об этом много раньше. А о том, что на смену невзрачным людям придут их дети, и догадываться нече-го, — кто же ещё?
Словесность, которая была забита багровым багром, вынырнет и зарез-вится, но зловоние залива не развеется ещё сотню лет, каким бы Финским он ни был.
Психология равенства и страха сменится психологией неравенства и зависти. «Да здравствует счастье!» — скажет человек, ненавидящий счаст-ливых, и издаст собрание моих стихотворений. Признание такой ценой? Увольте, я не хочу быть орудием эстетических опытов и пыток (сокращён-но: эстетов и эстеток).
Но меня не спросят, и книга выйдет. Лет через тридцать Вы раскроете зелёненький с золотой каёмочкой томик моих стихов в заветной серии «Библиотека поэта». Это будет похоже на продолжение отложенной шах-матной партии, в которой я играл, конечно, за белых. Позвольте предло-жить Вам позицию в моём шуточном изложении, пророчески написанном, дай Бог памяти, в 1956-м году:
Одним из шахматных примеровсвою судьбу — [взгляд офицеров
стремительный, и стать ладейпрямолинейная, и кони,
что ходят буквой «г» людей,и ферзь в резной своей короне,и выше всех король на троне,
и пешки (эти без затей)] —воспой, акын!.. Доска пустыней
давно лежит перед тобой,и надо быть себя акынней,
чтоб хвастаться такой судьбой...Постой, я шахматы расставлю:
король у белых аш-один,ладья же-три — на чёрных травлю(сейчас начнём) воспой, акын! –
ладья же-семь, к ним слон (без спешкирасставь) е-пять, затем — две пешки:
аш-два и е-четыре. Татьстоит впритык: король же-пять,
вокруг пехота: же-четыре,же-шесть, аш-пять. И всё. И мат

184Владимир Гандельсман
в три хода, лучезарный брат!Не всё терпеть нам пораженье,есть ход изысканный, смотри
на поле: вот оно, решенье,догадываешься?..1
И пока Вы решаете задачу, я попытаюсь отблагодарить Вас за восто-рженный отклик кратким комментарием к тому, что в нём не нуждается.
С младенчества я очарован игрой света и тени. Наше появление и наше исчезновение — прообразы этой игры. Шахматная доска и миганье бабоч-ки — из лучших её воплощений, и не зря я посвятил им столько строк, которые не что иное, как чудесное и бесплотное воскрешение веществен-ного мира. «...Страница под стеклом / бессмертная, вся в молниях пома-рок» — та же игра света и тени, и не только благодаря молнии, но и благо-даря виду самой страницы с её чередованием белого и чёрного.
Меня всегда восхищали превращения, которыми занимается на первый взгляд природа, и лишь на второй — кто-то ещё, неведомый, сидящий в неизвестном ряду и подсказывающий недоступные обычной логике ходы: гусеница становится бабочкой, невзрачная пешка ферзём, кафкианский Грегор — навозным жуком. Так человек пересекает границу и, попадая в другой язык и чужую среду, становится эмигрантом: забавнейшее пре-вращение, когда меняется не он, а окружающий мир, становясь словно бы грохочущим поездом, в котором бедняге предстоит сопротивляться всей памятью, несущейся встреч. И в один прекрасный день превращение про-исходит с ним самим, и он просыпается на полустанке:
1 (Здесь и далее примечания автора.) Эту задачу я обнаружил впоследствии в сбо -нике шахматных задач, где она характеризовалась как одна из лучших, составлен-ных Набоковым; для любителей шахмат привожу диаграмму:

185запасные книжки. часть вторая: человек отрывков
Что за ночь с памятью случилось?Снег выпал, что ли? Тишина.Душа забвенью зря училась:Во сне задача решена.
Решенье чистое, простое(о чём я думал столько лет?).Пожалуй, и вставать не стоит:Ни тела, ни постели нет.
Возможно, Вам, никогда не бывавшему за границей, трудно вообразить подобную метаморфозу. Но почувствовать себя эмигрантом можно и не уезжая из родной страны, и Вы, проживая в неопрятной империи, знаете это лучше меня. Никуда это не денется и потом. Достаточно будет загля-нуть в исследование о творчестве Вашего покорного слуги — скольких макабрических кобр пригрею я на своей эмигрантской груди! — чтобы прочесть что-нибудь вроде (о, запомните мои слова!):
...Инвариант поэтического мира Набокова — двоемирие — является во многом результатом семиотизации “жизненного объекта”, то есть обстоя-тельств изгнания. Базовый вариант биспациальной структуры — чужбина/родина — первоначально сформировался в лирике...
Заграница, не правда ли? По отношению к абракадабре языка, приду-манного профессурой ради безопасности своего проживания в комфорте примитивной мысли и притупленного чувства, поэт всегда в эмиграции. Стоит секунду-другую потратить на этот французский замок — разве не французы с их парфюмерией пудрят нынче последние мозги филоло-гии? — чтобы распахнуть двери и услышать их возмущённое и плохо при-крывающее упитанную наготу «Ах!».
Но продолжим. Один из любимых квадратиков — квадратик окна, эта заблудившаяся шахматная клетка, которая бывает то белой, то чёрной, в зависимости от времени суток.
Вдохновенье, розовое небо,чёрный дом с одним окномогненным. О, это небо,выпитое огненным окном!Загородный сор пустынный,сорная былинка со слезой,череп счастья, тонкий, длинный,вроде черепа борзой.
Повторённые небо-небо и окном огненным-огненным окном — чистое отражение: вы видите бледное небо и чёрный дом с одним окном и затем вздрагиваете на переносе: “...огненным”.

186Владимир Гандельсман
Окно вспыхивает, и вы вновь видите, но с удвоенной силой: загоревшиеся небо и окно. Таков вечер на пустыре и таково счастье. Оно — словно бы удвоение себя, и значит — мгновенный перенос на кого-то:
Как я люблю тебя. Есть в этомвечернем воздухе поройлазейки для души, просветыв тончайшей ткани мировой.
Довольно. Надеюсь, мой дорогой и юный друг, что Вы учли почтитель-ное нежелание этого письма разрастаться до неопределённых размеров и решили задачу. Боюсь, что и те, кто играл за чёрных и бесконечно откла-дывал партию, тоже догадаются (за тридцать-то лет!) о неизбежном мате в три хода.
И вы знаете, как они выйдут из положения и отомстят за свой позор? Они издадут мои стихи и в предисловии (издевательски, кстати, передраз-нив меня — см. мой «Комментарий к “Евгению Онегину”), напишут: «Владимир Владимирович Набоков (псевдонимы Владимир Сирин, Василий Шишков) (1899 — ?) — второстепенный русский поэт...»2
И тогда я смеюсь, и внезапно с перамой любимый слетает анапест,образуя ракеты в ночи, так быстразолотая становится запись.И я счастлив. Я счастлив, что совесть моя,сонных мыслей и умыслов сводня,не затронула самого тайного. Яудивительно счастлив сегодня.Это тайна та-та, та-та-та-та, та-та,а точнее сказать я не вправе. Оттого так смешна мне пустая мечтао читателе, теле и славе.Я без славы разросся, без отзвука жив,и со мной моя тайна всечасно.Что мне тление книг, если даже разрывмежду мной и отчизною — частность.Признаюсь, хорошо зашифрована ночь,но под звёзды я буквы подставили в себе прочитал, чем себя превозмочь,
2 Стихи, за исключением первого, цитируются по изданию: В. В. Набоков, Стихотворения, «Новая библиотека поэта», 2002, с предисловием М. Э. Маликовой; предисловие начинается с предложения: «Владимир Владимирович Набоков (псев-донимы Владимир Сирин, Василий Шишков) (1899–1977) — второстепенный рус-ский поэт, переводчик, автор нескольких драм в стихах — родился в Петербурге, в 1918 году эмигрировал, с 1940 года жил в Америке, где писал по-английски, умер в Швейцарии...». Главный редактор — А. Кушкин.

187запасные книжки. часть вторая: человек отрывков
а точнее сказать я не вправе.Не доверясь соблазнам дороги большойили снам, освящённым веками,остаюсь я безбожником с вольной душойв этом мире, кишащем богами.Но однажды, пласты разуменья дробя,углубляясь в свое ключевое,я увидел, как в зеркале, мир и себяи другое, другое, другое».
***Автокомментарий к «Шахматному этюду» (по заданию журнала «НЛО»)
Шахматный этюд
Шахмат в виде книжкипластмассовые прорези
по бокам для съеденных фигур стежкистолбиком, резные ферзи,
пешки-головастики, ладьи,в шлемах лаковых слоны,я пожертвую собою ради
жёлтого турнира в клубе — лбы наклонны
над доской — Чигорина,в клубе, на Желябова, –
горя, горя — на! Много горя — на! –как уйти от продолженья лобового? –
инженеры в жёлтомсвете с книжечками шахмат,
о, просчитывают варианты, шёл в томснег году, пар у дверей лохмат,
шёл в том, говорю, годуснег и кони Аничковы Четырёх конейпомнили дебют и рвались на свободу,
от своих корней, всё непокорней,
две ростральные зажглифакелы ладьи, Екатерины
ферзь шёл над своею свитой, в тиглефонаря зимы сотворены
белые кружились в чёрном,инженер спешил домой,

188Владимир Гандельсман
в одиночестве стоял ночномголый на доске король Дворцовой,
жертва неоправданна была,или всё сложилось, как та книжка,
где фигуры на ночь улеглись, где их прибилонамертво друг к другу, нежно,
и никто не в проигрыше, разветы не замирал в Таврическом саду,в лужах стоя, Лужин, где развеян
и растаян прах зимы, тебя зовут, иду, иду.
30 декабря 2000 г.
Шахматный этюд — позиция, близкая к игровой, в которой тре-буется найти путь к выигрышу или ничьей.
Из «Шахматного словаря»
Стихотворение можно рассматривать как статическую позицию, где слова, подобно фигурам в шахматном этюде, связаны между собой един-ственным образом, при этом они расставлены (как и в этюде, а ещё более — в шахматной задаче) не совсем естественно, это не обычная раз-говорная речь (равно, как и в шахматном случае — позиция, в соответствии с определением, лишь близкая к естественной), но поэтическая, то есть фигуры речи и элементы фигур существуют не в стройном порядке, но перетасованы: подлежащее, сказуемое, второстепенные члены занимают не те положения, которые предписаны регламентом регулярной грамот-ной речи.
Кроме того, стихотворение можно сравнить с динамическим развитием ситуации на доске, ход за ходом. Если отвлечься именно от «шахматного этюда» и сопоставить его просто с шахматной партией (представим для порядка, что мы придём в итоге к этюдному окончанию и оправдаем название стихотворения), то увидим те же стадии развития: дебют, мит-тельшпиль и эндшпиль, — со всеми причитающимися им аналогиями. Вы не можете начать стихотворение словами: «Поскольку я купил стираль-ный порошок...» — ясно, что во второй строфе вы будете стирать, в тре-тьей сушить, в четвёртой гладить себя по брюшку и т. д., — это было бы равносильно попытке поставить сопернику детский мат и немедленно проиграть партию. Если же поэт начинает: «Мастерица виноватых взо-ров...», то предугадать продолжение невозможно.
Но и начав сколь угодно неожиданно, вы должны помнить, что вовле-чены в слишком древнюю игру, где первые ходы изучены вдоль и поперёк и делаются почти автоматически, и — значит — при переходе в миттель-шпиль следует позаботиться о нелобовом продолжении. И здесь, когда все

189запасные книжки. часть вторая: человек отрывков
образы и возможности их развития (все комбинации, просматриваемые на много ходов вперёд) всё-таки теряются вдали и разбегаются, как те два зайца, которых в снеговой канители и мерцании фонарей много больше, когда вы ещё можете уследить, в какой подъезд свернула ваша неверная, но — на какой этаж? в какую квартиру? — нет, не успеваете, и вам остаёт-ся замереть перед домом и гадать по окнам, раскладывающим свой вечер-ний пасьянс, — тогда, в отчаянии или в счастливом прозрении, вы осво-бождаетесь для интуиции и делаете верный ход (или — в помрачении — гибельный). Будет ли это жертва ферзя или ход конём, внезапная рокировка из чувства самосохранения или усложнение партии с нагнета-нием фигур в центре и угрозами на королевском фланге, — рано или позд-но, но стихотворение перейдёт в эндшпиль, где главенствующее место, вероятнее всего, займёт расчёт.
Прекрасно, если концовка будет подобна прорыву проходной пешки и её ферзевому преображению. Лучше бы сказать: превращению всего сти-хотворения в ферзя, поскольку бедный Евгений по ходу повествования — явная пешка, не имеющая ни малейших шансов стать ферзём, между тем как стихотворение на приобретение нового качества в финале — рассчи-тывает.
Симметрии шахматной доски соответствует рисунок стихотворения, а каждой из трёх стадий игры — соответственно (и приблизительно): две строфы, пять и снова две (чёткой границы при переходе от дебюта к мит-тельшпилю и от миттельшпиля к эндшпилю нет).
Продолжая шахматные ассоциации:автор даёт сеанс одновременной игры. Не могу назвать точное количество досок, потому что их всегда будет на одну больше любой указанной цифры.
Как минимум, разыгрывается: а) дебют пятидесятых, б) застойный вариант, в) защита Лужина, г) всеобщее начало, д) предновогодний гам-бит;
а) автор видит всё из своего десятилетнего возраста: заснеженный город; шахматный клуб, в который его водит с собой дядя-инженер; дяди-ных друзей, склоняющихся в зрительном зале над шахматами, точное описание которых он найдёт когда-нибудь в «Защите Лужина». («Не кни-жечка, а маленькая складная шахматная доска из сафьяна <...> В отделе-ниях, по сторонам самой доски, были целлулоидовые штучки, похожие на ноготки, и на каждой — изображение шахматной фигуры. Эти штучки вставлялись так, что острая часть въезжала в тонкую щёлку на нижнем крае каждого квадрата, а округлённая часть с нарисованной фигурой ложилась плоско на квадрат. Получалось очень изящно и аккуратно, — эта маленькая красно-белая доска, ладные целлулоидовые ноготки, да ещё тиснённые золотом буквы вдоль горизонтального края доски и золотые цифры вдоль вертикального».) И совершенно смутно, тоже глядя из про-читанного романа, автор вспомнит расположение фигур: дядя, его жена и

190Владимир Гандельсман
некто незримый и ненавидимый, жену умыкнувший. Комбинация, отлич-ная от книжной, но, конечно, близкая: измена! Зевок, битое поле и взятие на проходе... Однако разыгрывать её – значило бы пожертвовать стратеги-ческим планом в пользу временных и сомнительных преимуществ;
б) автор в начале семидесятых; и теперь его самостоятельный проход по городу, увиденному как огромные имперские шахматы; беглые ассоциа-ции с Евгением и «Медным всадником» неизбежны; лёгкий социальный мотив: кони на Аничковом мосту, рвущиеся на свободу, — вариант мель-кнувший, но оставшийся неосуществлённым ввиду очевидности;
в) герой Набокова прекрасно знает реалии города, перечисленные в стихотворении: Невский проспект, Дворцовая и т. д. Там он гуляет с гувернанткой-француженкой. «Клуб Чигорина»? — в романе вы слышите, как Лужин-младший говорит отцу: «Чигорин советует брать пешку»; по Сергиевской Лужин идёт к тёте, живущей у Таврического сада. Автор сти-хотворения «Шахматный этюд» в 70-е годы живёт на ул. Чайковского (бывшая Сергиевская); в том же Таврическом саду, где оказывается Лужин, прогуливающий школу, засматривается на шахматистов; «игра богов», говорит о шахматах скрипач из «Защиты Лужина», — и действительно, невозможно оторваться от красоты шахмат, даже если вы не поспеваете за мыслью играющих; «тебя зовут, иду, иду» — финал стихотворения, но и смерть и освобождение Лужина — «оттуда, из этой холодной тьмы, донёс-ся голос жены, тихо сказал: «Лужин, Лужин».
Подобно Лужину, и столь же ненамеренно, стихотворение «играет» против пошлости и каждым ходом создаёт непредвиденную ситуацию. Вот оно, то самое «высокое косноязычье»: Лужин — своей будущей тёще: «Честь имею просить дать мне её руку», — три безнадежных глагола под-ряд (как если б это были строенные(!) пешки) — и всё-таки победа! Королева пошлости, тёща, сдаётся, и соглашается на немыслимый брак. Формальная сторона дела в «Шахматном этюде» не менее косноязычна: это относится и к построению фразы, и к рифме;
г) существует общий смысл такого прохода героя: через горе, утраты, жертвы, — безотносительно к конкретной истории бедного Евгения, кото-рую автор хоть и имел в виду, но не описал; скажем, аккадский эпос о Гильгамеше, расположенный симметрично на шахматной доске време-ни — где-то за два тысячелетия до Р. Х., — о том же:
Тоска в утробу мою проникла,смерти страшусь и бегу в пустыню;
д) предновогодний гамбит знаменателен ещё и тем, что «играется» на исходе второго тысячелетия; автор пишет стихотворение 30 декабря 2000 года, увидев и купив в магазине ту самую шахматную книжицу, которую не видел с детства. Радость этой встречи спасает безнадёжную, в сущно-сти, позицию.

191запасные книжки. часть вторая: человек отрывков
Можно продолжать шахматно-поэтические ассоциации сколь угодно долго. Взглянуть, например, на запись партии, которая смотрится как стройное стихотворение, да ещё и со знаками препинания: ! — сильный ход, ? — слабый. Можно провести сопоставление с падежами: именитель-ный — неподвижная данность фигуры (кто? что?), родительный — взятие наискосок (кого? чего?), дательный — шах! (кому? чему?), винительный — размен (кого? на что?), творительный — жертва (кем? чем?), и т. д. — играй-те, фантазируйте (в оставшемся предложном падеже — о ком? о чём?), — у меня нет навязчивой идеи сделать эту аналогию более убедительной. Куда как радостней бросить её и заняться на секунду другой, скажем — музы-кальной, и, представив себе, что шахматная доска — нотный лист, увидеть длительность звучания этих «нот», в зависимости от длительности их жизни на доске: пешка — одна шестнадцатая — а их, пешек, как раз шестнадцать, они же — по мере быстрых разменов в начале — «восьмые»; лёгкие фигу-ры — «четверти», «половинки» — ферзи и короли, пока в живых — после того, как поставлен крестик и объявлен мат, — не остаётся одна длящаяся «целая» нота победы. Можно обнаружить, что имена Чигорина и Желябова сталкиваются лбами, расположившись по краям двух соседних строк. Возникнув случайно, просто как имена клуба и улицы, они немедленно оправдывают своё появление: эти люди почти ровесники (1850 и 1851 года рождения), кроме того оба желали смерти властителя (шах-мат — смерть властителя), первый — творец, второй — разрушитель.
Но я испытываю цейтнот, и перехожу к заключению.Созданное проблесками мысли, памяти, образов и т.д. и заключённое
под умным куполом черепа, стихотворение устанавливает связь бесконеч-ного числа разновременных и разновеликих событий, высвечивая их с такой силой, что они, при всей случайности сочетания, оказываются выявленной неизбежностью, точечным узором невидимого замысла, подобно звёздам под единым куполом небосвода. А напросившимся «небесным» сравнением с собой они подтверждают не совсем земное про-исхождение жизни и поэзии.
На определённой глубине, на глубине прозрения, всё связано со всем. Обыденному человеческому сознанию этот опыт дан в страдании, и не зря человек и даже плохая литература дорожат «страдальческим» опытом: он делает жизнь символичной и значимой, пронизанной насквозь неким замыслом. Весь мир — с головы до пят — участник вашей драмы, каждая песчинка причиняет вам боль, и вы согласны на эту боль и дорожите ею, лишь бы ощущение жизни всего вас не покидало. Глубина прозрения — дру-гая глубина, и гармоническая связь вещей там возникает помимо вашего эгоизма, точнее — за его пределами. Стаккато дождя прекратилось, и небо, как лига над нотами, привело всё, над чем оно простирается, к согласию.
Небо — одно и то же, и оно незыблемо, но его нет без проявлений: звёзд, или облаков, или птиц, данных всегда в неповторимом сочетании. Любым стихотворением поэт свидетельствует (словно бы покручивая

192Владимир Гандельсман
калейдоскоп и создавая всякий раз новый рисунок из одних и тех же стё-клышек) о том, что всё есть только после создания того, что есть.
Лужин смотрит в комнате на пустую доску и видит, как гибнут и рожда-ются миры. Шахматная партия (в нашем случае — с переходом в этюдное окончание; а Лужин, кстати, думает в одном эпизоде: «...бывает, напри-мер, когда в живой игре на доске повторяется в своеобразном преломле-нии чисто задачная комбинация...») — шахматная партия подлежит вос-созданию и становится непререкаемой. И если повезёт, вы успеваете запи-сать выигрышный ход до истечения «основного» времени.
***В 1908 году по Парижу бродил слепой человек, прославившийся впослед-ствии тем, что его встретил и запечатлел Рильке:
<...> Он идёт чутьём, при каждом шагеловит мир в отрывистых щелчках:
угол, камень, пустота, забор...
(Пер. В. Летучего)
Но слепому этого было мало и, уступая его притязаниям на вечность, через пятнадцать лет старика у того же забора встретил и сделал повторный сни-мок Владислав Ходасевич:
<...> А на бельмах у слепогоцелый мир отображён:дом, лужок, забор, корова...
***Одно из глупейших зрелищ, которые я когда-либо видел, это синхронное плавание. Девушки с прищепками на носу, уходящие под воду...
***Стихи Ш. похожи на неприбранные комнаты: всё на виду, но ничего не найти.
***Я снял телефонную трубку, и оттуда высыпался звонок.
***Князь Щербатов поведал мне забавное семейное предание. Его прабабка однажды перемолвилась словечком с Пушкиным.Свободная и дерзкая особа, она упрекнула поэта в строках шестой главы: ночь перед дуэлью и:

193запасные книжки. часть вторая: человек отрывков
...уж соседв безмолвный входит кабинети будит Ленского воззваньем:«Пора вставать: седьмой уж час,Онегин, верно, ждет уж нас».
– Как, — спросила она, — Вы могли так неловко выразиться, употребив дважды подряд «уж»?– Сударыня, — ответил наш поэт, — Вы ошиблись в счёте. Трижды. Вначале уж страха вползает в комнату с соседом, а затем звучит двойной ужас Ленского. Вообще, чуткий на благозвучие слух не обязательно свиде-тельство слуха умного и наверняка не входит в привилегию женской красо-ты, не так ли?
– Не знаю, что меня больше поразило, — добавил князь Щербатов, — рас-чётливо сработанные строки или последняя фраза, обращённая к прабабке.
***Набоков одержим идеей вклада читательского чувства (сопереживания) в подставное лицо или «подсадную» ситуацию. В «Подлинной жизни Себастьяна Найта» («The Real Life of Sebastian Knight»), небольшой вещи-це, это встречается раза четыре, не меньше. Герой, в погоне за местами, где брат Себастьян жил, и людьми, знавшими его, достигает некоего дома, преисполненный чувств и воображения: здесь проходила жизнь брата. Выясняется, конечно, что он ошибся домом.В финале рассказывается, как автор спешит к умирающему Себастьяну, входит в палату и слышит его дыхание. Затем оказывается, что брат умер накануне, а он по ошибочному указанию ночного портье вошёл в палату к чужому человеку.(В шахматных образах (а Knight — это шахматный конь), чтобы попасть на необходимое поле, мы должны сделать шаг вперёд и прыжок в сторону.)И вот заключение:«Так что я всё же не повидал Себастьяна, вернее, не увидел его живым. Но немногие минуты, которые я провёл, прислушиваясь к тому, что прини-мал за его дыхание, изменили мою жизнь в такой полноте, в какой она изменилась бы, поговори со мной Себастьян перед смертью. Какова бы ни была его тайна, я тоже узнал одну, именно: что душа — это лишь форма бытия, а не устойчивое состояние, что любая душа может стать твоей, если ты уловишь её извивы и последуешь им. И может быть, потусторонность и состоит в способности сознательно жить в любой облюбованной тобою душе — в любом количестве душ, — и ни одна из них не сознаёт своего переменяемого бремени. Стало быть — я Себастьян Найт».Как всегда, Н. хочет сказать, что реальность — это то, чего нет. (И это при его утверждении, что Восток он отрицает — весь.)

194Владимир Гандельсман
С потусторонностью сложнее, потому что она двойная: дву-поту-сторонность, и сознательной способности творца подселяться к избран-ной им душе соответствует жизнь души, живущей в сознании творца, жизнь души кого-то, кого уже, быть может, нет на свете и потому совер-шенно не сознательного и воистину не обременённого этим знанием.Своя потусторонность у существования и своя — у несуществования.Свобода облюбованной творцом души, не сознающей своего «переменяе-мого бремени», — скорее вот об этой потусторонности думает Набоков, и творцом здесь является его читатель, в котором он поселяется, выйдя из игры, посмертно. Как сказал Бродский: «Здесь, на земле <...> где жил, в чужих воспоминаньях греясь...»В астрономическом времени эти две потусторонности не совпадают, пото-му что астрономическим временем обладает только живой, у него — «чув-ства», у второго, ушедшего из жизни (или находящегося в другой точке пространства и не ведающего о сиюминутной своей принадлежности кому-то, как Найт не ведает о любви брата, преследующей его, как Б. не знает, в чьих воспоминаниях и когда он греется, как Н. не знает, что я его читаю), у второго — великое присутствие и никаких «чувств».Можно бы назвать это радостью невстречи.Охотник, высматривающий добычу и «убивающий» муляж (в кустах хохо-чут друзья, так остроумно разыгравшие новичка), испытывает, вероятно, разочарование и отвращение от такой «невстречи».В случае с набоковскими «штучками» — всегда радость (притом что нас водят за нос), если у читателя есть смелость радоваться указателю во внев-ременное, в «невстречу», в реальность, которой нет.
***Точное подобие сути телефонного разговора Пастернака со Сталиным есть в «Живаго». Красноармейцы ведут раненого гимназиста, у того всё время сваливается фуражка, он то и дело её поправляет, «в чём ему с готовно-стью помогали оба красноармейца. В этой нелепости, противной здравому смыслу, было что-то символическое. И, уступая её многозначительности, доктору тоже хотелось выбежать на площадку и остановить гимназиста готовым, рвавшимся наружу изречением. Ему хотелось крикнуть и маль-чику, и людям в вагоне, что спасение не в верности формам, а в освобож-дении от них». Сомнительное в данной ситуации соображение: расстреля-ют мальчика — вот вам и освобождение от формы. И, конечно, всё это напоминает разговор вождя и поэта о Мандельштаме, когда, возможно, решается судьба последнего и когда вместо конкретного ответа на кон-кретный вопрос Пастернак высказывает пожелание поговорить отвле-чённо-философски: о жизни и смерти.
*** Мне хочется домой, в огромностьквартиры, наводящей грусть.

195запасные книжки. часть вторая: человек отрывков
Войду, сниму пальто, опомнюсь,огнями улиц озарюсь.
Это чп (четверостишие Пастернака) одно из лучших в русской поэзии.Опишем то, что поддаётся описанию, оставив за дверями скобок (пока скрипят скобы дверей) явный январский мороз по коже, если зима на дворе, золотистый озноб октябрьской осени, если осень, и сними-ладонь-с-моей-груди лихорадку весны, которая, звезды превысив досяганье, наи-более вероятна.Вот эта «огромность» — прежде всего, хотя её удача необоснованна: квар-тира наверняка не огромна, огромна радость, которая впопыхах дарится первому встречному, здесь — квартире. И врубается коренной и односе-кундный «гром» освещения. В кинематографическом движении третьей и четвёртой строк мы увидим Окна квартиры благодаря «Опомнюсь-Огнями-Озарюсь», а эта оглядка «опомнюсь» нас вернёт к рифме, и зна-чит — к «огромности» квартиры, к теням, пробегающим по стенам и потолку.Вырванный клочок света и радости бытия, с предшествующим драматиче-ским избытком жизни. Почему — «опомнюсь»? От чего? Там, за дверями, до появления этого наклонного лица в освещении улиц свет и радость уже произошли.Здесь же, в четверостишии, — их удвоение. Как в другом случае: «...стал мигать обвал сознанья, — вот, казалось, озарятся даже те углы рассудка, где теперь светло, как днём». И озаряются. Вспомним — стихотворение, откуда взяты эти строки, начинается так: «А потом прощалось лето с полу-станком...» «А потом» — что-то замечательное уже произошло, и теперь произойдёт вторично, в стихотворении.Как «огромность» не принадлежит кубометрам, так освещение — люксам, впадая по нисходящей (по наводящей) в устье грусти, родной сестрёнки радости.В тот момент, когда я ччп (читал четверостишие Пастернака), я начинал, как начинают года в два, писать стихи, и ровно тогда я встретил Пастернака на лестнице: он поднимался — я выходил.
Когда с дерев сползала теньгустого горького отвара,на чёрный траур тротуарасбегал я с десяти ступень.
И тут же становилась очевидной правота этого «Мне хочется домой...» — по-детски родного и совершенно здорового направления человека.
Конец 90-х — 2004 г.

школьный вальс
...Но где бы ни бывали мы, тебя не забывали мы, как мать не забывают сыновья... Простая и сердечная, ты — юность наша вечная, учительница первая моя!
«Школьный вальс», слова М. Матусовского,
музыка И. Дунаевского

197школьный вальс
ПОСВЯЩЕНИЕ № 1
Свежайшей книгой я порадуютебя, мой друг,так флоксы радуют парадную,вносимые рукой отрадноюдля лучших рук. Ты, кошка из подвальной темени,позолоти глазами в лабиринте временимой путь, как золотится в Йеменепесок пути. Читай, мой преданный, не выпятидугой грудисебя, и ко взаимной выгодевпади со мною в звук, и выпади,и вновь впади.
ПОСВЯЩЕНИЕ № 2
Ты хочешь, мальчик, книгу счастья?Бери, онапусть разорвёт тебя на части,а ты — её. Ты хочешь, девочка, чтоб мальчикпро шалунатебе читал отмёрзший пальчикили моё?
ПОСВЯЩЕНИЕ № 3
В моей столь памяти столь многое сохранно,что — что куда девать?Не знаю, друг. Бывает, встанешь рано –и начинаешь людям раздавать.

198Владимир Гандельсман
1
МАТВЕЕВА, ЗОТИКОВА И АНТОН
Юноша в небе летит,с дерева он сорвался,яркой весны разгорается аппетит,солнце весеннее, алься. С девочками двумя пойдёмза гаражи и снимемтрусики: с тоненьким петушкомя постою на синем фоне небесном и погляжу:лодочки девичьи!Руки на лодочки положу.Дни, как царевичи. Юноша в небе летит,быть ему без селезёнки.Кто там паяет и кто там лудит,лесенки носят, и песенки звонки. Кто петушковлижет и ладит гирлянды?Кто идёт из кружков?Кто встаёт на пуанты? Маленьких балеринбелые кости.Переверни глицерин.Праздник и гости. Мальчик, себя мусоль,членистоногий, –выпадет белая соль.Боже, прекрасны Твои дороги.

199школьный вальс
2
СЕРЕБРЯКОВ
...целует девку — Иванов! Н. З.
А то ещё весна стократная,и обморочных облаковкартина в лужах всеобратная.Идёт домой Серебряков. Два воробья сидят в числителена проводе, и, сократясь,один слетает, чтоб не виделиего, в прожиточную грязь. А тот другой ещё топорщится,и водит тряпкой по доскевдали забытая уборщица.И жизнь висит на волоске. Но как висит! Какие области,Серебряков, какой просветпод юбкою, какие полоститебе обещаны, сосед. Не ты ли вынимал под партоюпроснувшегося воробьяи с ним затеивал азартнуюигру, и восхищался я. Весна стоит первосвященная,и капли кровельных железстекают в рот. О, совершеннаяжизнь, обретающая вес.

200Владимир Гандельсман
3
БЕЛОВА
Зажатие в углу Беловой,дыханье рыбное её,когда дракон многоголовыйшершавых мальчиков облавойтеснит орущее сырьё. Каким томливым слабоумьемтот многохвостый, тот драконживёт и пышет многогубьем,и многолапья многогрубьемзадрать Белову хочет он. И вот по позвонку от шеитрещат крючки и с мясом рвутсукно, о, тёмные аллеи,в которых роют, плотью блея.Иван, я помню потный труд. О, этот миг, когда, зажата,сопротивление смирив,она вдыхает пот солдатаиз будущего, от обхватав себе почувствовав прилив. О, этот миг, когда насильезамрёт моей Беловой встреч,и вот в углу с повисшей пыльюмолчанье, солнце, изобильесекунд, не могущих истечь.

201школьный вальс
4
АЛЕКСАНДР СТАРШИЙ
Выходит Александр-копьеметатель,самоуверен, мускулист,голубоглаз, он весь артистзамаха и прекрасных дам ласкатель. Заворожён наклонный профиль далью,рука откинута, разбег,ног перебор, копья навеклёт быстроблещущей горизонталью. И смотрит златокудрая: вальяжный,идёт, закончив бранный труд,а наконечник входит в грунтплотномягчайший, травянистовлажный.

202Владимир Гандельсман
5
ШАРМАНКА (1)
время-манная крупа,крупные пакеты,грецких шлемов скорлупа,ёлочкой паркеты,время шкафчик отворить,сухари нашарить,время вермишель варить,шкварки жарить,обвалять в муке желток,вычесть в чашку,в коридоре счётчик, ток,в нём вращающийся

203школьный вальс
6
ИВАН ИВАНЫЧ
И ты, Иван Иваныч, потихонькуи помаленьку,давай-ка с палочкой, на выкате глаза,глаза на выкате (а дворничиху Сонькуи мужа Сенькузапустим стороной, как бы гроза, грозящая тебе, Иван Иваныч), –на середину!О, Нестор, брызжущий слюною, похабельдля юных воинов дрочливых, глядя на ночь,воспенив ртину,средь марта кутающийся в шинель, давай, гони её сюда на сцену,всади по локоть,рукою руку преломив и сделав жест,высвобождая юных воинов из плена, –о, эта похоть –воображенщина дрочливых ест! «Мой, — говорит он, — дядя самых честных,когда не в шутку,он по сих пор заправил дворничихе, — так,что дворник вытащить не мог», — от этих тесныхсношений чутковострились ушки и твердел пустяк. «А то ещё, — он говорит, — с одноюидём на площадь,а я моряк, а ночь и мрак, а девка смак,и вдруг она на спинку бряк и вверх копною,и ржёт, как лошадь».«У-у, — люто зыблется, — какой стояк!» Ах ты, Иван Иваныч, ах, Амелин,мудак в запасе,ведь Сонька с Сенькою тебя подстерегли

204Владимир Гандельсман
в параднике и задушили, Нестор-эллин.Никто не спасся.Нет дворников и пропиты рубли. Но в небе юноша летит весеннем,сорвавшись с ветки,и копьеносец разбегается с копьём,и по земле копьё несётся тонкотеньем,и счастье в клеткеСеребрякова бьётся воробьём.

205школьный вальс
7
МАТВЕЕВ
Пошатываясь, капитан Матвеевширинку расстегнёт и, на лунууставясь и струёй златой прореявво тьме, споёт ей «Широку страну». Он весь из рюмочной, где пол-яичкаи килечку кладут на хлебец,а после третьей вспыхивает спичкаи полон ум таинственных нелепиц. Алёна-дочь с женою Софьей Палнойуж верно спят, уж полночь на дворе,и вот уж капитан опальныйсам спит, храпя под мухой в янтаре, на кухне, не раздевшись, в кресле,развесив руки и главой опавна грудь, – так вот он, крестныйтвой путь, Матвеев, о, ты пьян и прав! Сегодня ты решил задачу смерти,забыв немедленно, как ты решил её, –мелькнуло: так же с остановкой сердца:стук — бытие, нестук — небытие. И лёгкость словно бы надула кительи вознесла тебя под облака.Дочь-школьница, Матвеев-небожительи Софья Пална с видом на века.

206Владимир Гандельсман
8
ТАРХОВКА (А)
Произрастения землии солнца захождениянепреходящий смысл неслиза телоограждения.Когда я с Юдиной вдвоёмстоял в полуобъятии,тритон, замерив водоём,лежал там, как распятие.И голубь, с Ноевых высотслетев, всем Духом зановоявился Иордану води зренью Иоаннову.И он приноровил родствосвоё ко мне бесценноеи вдунул жизни веществов лице моё, в лице моё.

207школьный вальс
9
ВЕРАНДА БЫТИЯ (а)
двери дверныетрели чудесныескрипы лесные звери земные птицы небесныерыбы морские

208Владимир Гандельсман
10
КЛАССНАЯ БАЛЛАДА
Вержиковский сидит за Покровским,три колонки, да первый урок,да слепым Николаем Островскимхудосочно-зачатый денёк.
За последнею партою Мосин,он читает «Кон-Тики» тайком,это ранняя, думаю, осень,так что думаю я не о том.
Пусть к доске нынче выйдет Елькова,пусть расскажет чего наизусть,я на поле смотрю Куликовоза окном. Поражение. Грусть.
Извлеки мне двусмысленный кореньили в степень меня возведи,душно мне, я в себе закупорен,возраст держит меня взаперти.
Вержиковский достанет свой ножики Покровскому в спину воткнётза Ларису Дьячук. Сколько ножек!И ведь каждая линию гнёт!
И Лариса при ножках и с грудью,и она возбуждает уже,и склоняет людей к рукоблудью,и любовь пробуждает в душе.
На собрании спросит директор,осуждаем поступок ли мы.Я не знаю, мне надобен вектор,Вержиковский — мой друг с той зимы.
Ты на двух, говорит она, стульях,Романовский, сидишь, говорит.Стыдно мне, уж пушок есть на скульях,а двуличен. В зеницах пестрит.
Осень туберкулёзная наша!Ты, Измайлов, за лето подрос.То-то, видимо, плакала Саша,когда лес вырубали берёз.

209школьный вальс
11
ШАРМАНКА (2)
в нём вращающийсявращающийся с краснойметкой диска серебра,с мельком цифры разной,красный день календаря,время отрывное,время в стремя сентября,в однокоренное,просыпай секунды, сыпь,как крупу, сквозь сито,время-корь и время-сыпь,время шито-крыто

210Владимир Гандельсман
12
ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ
Аллейкаи дворик типичный,линейкау серокирпичной, и астры,их запах сентябрьский,прекрасный,как голос, Синявский, футбольный,твой голос плацкартный,и сольныйпроход Эдуарда, и лучикиз зелени боком,как лучникс зажмуренным оком, уклейкав извиве горящем,калекав вагоне курящем, и лето,и, пыльный и бывший,столб света,вагоны пробивший, взять на зуб,на ощупь и зреньемту насыпьс её озареньем, и солнцев песчаном разбросе,как голос:умножу, не бойся,

211школьный вальс
умножу песчинки прилива,и ношуты примешь, счастливый, — и тольковсе грани мелькнулиосколка, как нас умыкнули.

212Владимир Гандельсман
13
ФИЛОСОФИЯ-I
Надо быть себя мгновенней,чтобы подвиг совершить,пусть решимость дуновенийветра научает жить.Всплеск души твоей не можетбыть неправильным, душапрежних мыслей не итожит,умностью не дорожа,и никто не господин ей:ни философ, ни пророк,проблеск в тонком слове «иней»с ней сравним наискосок,или вздрог вдоль слова «искра».Ослепительно-ясна,только проповедью быстройжизни высится она.

213школьный вальс
14
ИСТОРИЧКА
Агнесса Львовна кривляется,передразнивая Иванова,и окрыляется,и кривляется снова, она стоит подбоченясь,и вокруг свеченье спылью мела,Агнесса Львовна изгибает тело, класс хохочет, урокатрать минуты, играй урода,в кубе воздуха тридцать тричеловека с душой внутри, Иванов с поршневоювозится ручкой, фрамугагарью залеплена с синевою,и посматривают друг на друга Корабейникова и Радостев,не по возрасту радостевполовых знатоки,да урчат в углах стояки, да Агнесса Львовна,Иванов она словно,идиотничает в кривом пылужизни, да на полу под доскою, как солдат под Москвою,тряпка лежит убитая,окончательная, не даровитая.

214Владимир Гандельсман
15
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Спросишь ли, зачем фамилийстолько в книге и имён?Я любитель изобилийисчезающих времён.Скажешь ли, что ностальгия?Нет. Я чистый лицедей.Так считай же, до скольки ядоведу число людей,восторгающихся раннимутром, поздней ли пороймоим светлым дарованьем,не закопанным в сырой.

215школьный вальс
16
ЦИКАДА
Двор, богиня, воспой с полукружием амфитеатра,окнами нисходящего к саду с песочницей. Так!Ночью становится он цирка ареной с незримымкарточным фокусником, раскладывающим пасьянс:окна то дамою вспыхнут, то королём, то валетом.Утром раззолотится в них солнце, залюбовавшись собой.После уж Дмитрий в плесницах, подобно Гефесту, умелец,выйдет и лук смастерит и остроконечные стрелы.(Сына Петрова трусливопобежного как-то, прицелясь,он поразит, и в прыжке над песочницей жертва повиснетв пятке с Гефеста стрелой и с мольбой на устах о пощаде.)Позже и Люся придёт, и они удалятся в глубинысада, где нет никого, но однажды средь летнего полдняя их увижу, лежащих в объятиях пылких друг друга: быстро под ними земля возрастила цветущие травы,лотос росистый, шафран и цветы гиацинты густые,гибкие, кои богов от земли высоко подымали.Там опочили они, и одел почивающих облакпышный, златой, из которого капала светлая влага.

216Владимир Гандельсман
17
ШАРМАНКА (3)
деревянный гриб с носком,время, мама, штопка,папа, праздники, партком,на комоде стопкагодовалая газет,молоко на плитку,повернуть ушко на свет,послюнявить нитку,за окном ночной трофей:мокрых листьев ворох,точит когти котофейна мышиный шорох

217школьный вальс
18
ВЕЧЕР
На третье в ночь. И тут же, третьего,иду, и где-то за спинойбрат и сестра плывут Терентьевы,обнявшись в ласточке двойной.Каток полурасчищен Сонькоюи Сенькой, деревянный шарклопат доносится сквозь тонкуюснег-пелену, и чуден шаг.Вечерние и благосклонныечасы прогулок и гостей,висят продукты заоконные,промёрзнув до мозга костей.На третье в ночь. О, вечер третьего,и переулок за Сенной(Грифцова, что ли? да, воспеть его!),и снег стеной, и снег стеной.Со мною Леночка Егорова,прекрасна и мгновенна плоть,есть с чем расстаться мне, до скорого,я говорю тебе, Господь.

218Владимир Гандельсман
19
НОЧЬ
Чашки голубого снега,северный фарфор,послепраздничный ночлегадом, и в окнах — двор, лёжа в радости простуды,слышишь: ночь не спити под мёртвый звон посудынад столом висит, над катком висит, и дальше,и уходит ввысь,спи, не слушай, мой редчайший,гости разошлись, а уж сколько было там их,чудных, где, светла,веселилась влага в граммахрюмочек стола, а уж сколько их топталось,от подошвы снегтаял, таял, талость, талость,разошлись навек, светом из сосудов неба –белого зерна,медленных хранилищ снеганочь — озарена.

219школьный вальс
20
ТАРХОВКА (В)
О, Юдина, о, полуобнятость,уйдёшь, тебя недораздев,и эту общую приподнятостьнесёшь средь огненных дерев.О, Юдина, часами позднимия шёл домой и думал так:запомню навсегда под соснамивмягчающийся в иглы шаг.И ты представь себе: запомнилосьне столько то, чем сердце полнилось, — веранда светит, как фонарькитайский, и ночная гарь,и зубки белыми ягнятами,и мёд из уст твоих, и мёдпод языком, и ароматамиЛивана дышит алый рот.И если бы не пошлость, родинкувоспел над верхнею губой,как пел рождественскую родинкупокойный Сирин, Бог с тобой,и с Буниным, и с их лилеями.Гуляя тёмными аллеями,авось, сумею прах добытьи пере- нас -захоронить.

220Владимир Гандельсман
21
ПРОЦЕСС
Торжеств юнейших тел,касаний их и тренийучастник, я грубелпо ходу тех мгновений,и проникал туда,куда хотел проникнуть,чтобы, огонь стыдауняв, к себе привыкнуть,ах, греческий божокво мне другой разжёгогонь, труби, рожок,и поднимай флажок,ах, семяизверженьепрекрасно тем, что мозгв нём терпит пораженье,расплавившись, как воск,чем жарче в черепнойкоробке, как в плавильне,тем и оно в цепнойреакции обильней,тем изойдёшь сильней,переплавляя порчурассудка в жизнь и почву,пресуществившись в ней.

221школьный вальс
22
P.S.
Благо из благ –встреча двух влаг.

222Владимир Гандельсман
23
ШАРМАНКА (4)
время, шорохи на днедома, лампа, тёменслед от фото на стене,мел каменоломенгородских, и снега мелдуновеньем с жестиподоконника слетел,козырь окон — крести,за окном сизарь дрожит,пригубивший пригубь,да закатный луч лежиткак победный прикуп

223школьный вальс
24
УРОК РУССКОГО/ЛИТЕРАТУРЫ
Реальность явна, как корабль,входящий в порт. Непререкаемо.Сверканием по борту капльи разгребаньем грабль река ему.Реальность видит, как смотрюв её лицо, и так же пристальноглядит на явленность мою.В упор глядеть она и призвана.Четыре серых и весна.На третье в ночь, и одноногиев порту краны — цапль прямизна –чуть в области травматологии.И есть ещё ночной бинокль,где мир един в своей бесценности,как если б пострадавших вопльвозник в гудке басовой цельности.Как цапли две воды, тот сноб,похожий на тебя, – на выдаче,как ты, получит каплю в лоб,на грабли ставши леонидыча.И гласной праведной внушитвсему стихотворенью правильностьтройную, как втройне зашиткристалл в оправленность.

224Владимир Гандельсман
25
НА ДАЧУ
Ночная электричка с лязгом.С искрой азарта.У паровоза на Финляндском.Ту-ту. До завтра. Летят небесные атласы.Лязг с нарастаньем.У бюста Ленина. У кассы.Под расписаньем. Вагонная скамейка с лоском,и в чёрном чадемельк полустанков. За киоском«Союзпечати». Союзпечали видеть тамбурслеза мешает.Пусть ударения каламбуракцент смещает. У паровоза. Здравствуй, Ленин!У бюста. Чувство,что ты кристален и вселенен,король Убюста. Нет, нет, неправда, до абсурдаеще далёко,и красит нежным цветом утролюбимой око.

225школьный вальс
26
РЯБИНКОВА И АНТОН
Сношений первых воплощённыйдруг-Рябинковатак прыгает на неучёный,небестолкова, и так, любезная, елозит,что неумелыйвот-вот сработает и вброситей плазму в тело. Развратница неотразимав своей атаке,как будто это Хиросимаи Нагасаки. Ей мало в пламенной свободеседлать и шпарить,ей что-то надо, что-то вродедогнать-ударить. В каких хоромах состоялосьтвое паденье?Где неучёному стоялось?Ночное бденье! Полоска в талии загарасо следом скрутокрезиночки, и круглых парав ладонях грудок, и потолок в итоге плоский,и смерть забавам,и простыня, как флаг японский,с пятном кровавым.

226Владимир Гандельсман
27
ВЕРАНДА БЫТИЯ (б)
твёрдость скалывёрткость змеирьяность огнярваность зариствольность соснывольность меня

227школьный вальс
28
ПОД НОВЫЙ ГОД
В окне проезжие разбросыволнообразных и бескрайнихснегов увидишь и раскосыйзеленогранник, в чуть затуманенных, забитыхслюдою наледи, в которыхзеленогранник-ель и выдох жилья в повторах, в волнообразных и проезжихполях мелькнёт — и ты увидишь –огонь, как золотой орешек,вдали и выйдешь. И вот она, платформа, хрустоми вмятиной дана подошвы,и дальше — сказанные чувствомснега: роскошны. За мелкою решёткой (надписьчитаешь: «Горьковская») в свитестоят деревья, как я рад извагона выйти и знать, витой и синеватойидя тропинкою на дачу,что позже стих витиеватыйна них потрачу, что лучший из поэтов в помощьмне даст жизнелюбивой силыи что со мною будет в полночьлюбовь Леилы.

228Владимир Гандельсман
29
ШАРМАНКА (5)
рано утром все ушли,вечером вернулись,лампы в комнатах зажгли,выжить извернулись!Молится, летая, мольнад роялем,грустная, как си бемоль,над лялялем,в ноты глядя, точно в даль,ворожит сестрица,нажимая на педаль,чтобы звуком длиться

229школьный вальс
30
ПОСЛЕ ШКОЛЫ
После полдня, от часа до двух,возвратимся из школы.Только нот мне не надо, на слухпроспрягаю глаголы.Исключения — «гнать» и «держать»,содержаньем убоги.Будет время — отвыкнем дрожать.Преломив слово в слоге,с полуслова друг друга поймём,и святое безделье,обеззвучив, устроит объёмкак святое бестелье.Так уж запах нам пота присущ,страх провала неумный?Легче, легче, приверженец кущрайских, ангел бесшумный!

230Владимир Гандельсман
31
ПЕНИЕ И РИСОВАНИЕ
Весны подай сюда, но с фикусом — весны!Пусть Пасынкова и Панфёроввсей потностью дохнут возни, –иду на шорох. Что впереди у нас, что впереди у нас?Учительница, научи нас.Кто у дороги, раскричась?О, это чибис! Уроков пения и рисованья вдох,с промытым небом над котельной, –иконостас из синих трёхпервоапрельной. Ещё верёвки, но с узлами, но фрамуг,раззявивших косые пасти,тяни, мой маленький, мой Мук,и рви на части. Вскрывая окна с треском, фикуса балласт –вот фокус! — за борт, в кучи угля!Панфёров, дай ей грубых ласк,её раскукля. Чулок с резинкою мелькнёт и край трусов,дверь, распахнувшись, включит тягу,ветр путаницей парусоввзметнёт бумагу. В весну — пока по позвонку бежит звонок, –первоапрельную кричи «бис!»,лети мне в клювике цветок,волнуясь, чибис!

231школьный вальс
32
ВРЕМЕНА ГОДА Вот Мельникова Ирасидит в луче косом,струящемся как лира.Свет солнца невесом.С ней рядом Белякова,алеет галстук-шёлк, она всегда готова.Свет вспыхнул и умолк.Васильеву Натальюотсадят от меня.Октябрь дохнет печалью,осадки уроня.Любители кальяновпод дождик задымят.Родненко, Емельянов.Болгарский аромат.Достать из пачки «Шипки»одну и закурить,увидев зимней зыбкикачнувшуюся нить.Иль затянуться «Солнцем» –и к форточке потёкслоящимся уклонцемсинеющий дымок.Потом, сугроб угробив,приходят март, апрель,и ты меняешь обувь,носимую досель.Потом гремят потокииз водосточных труб,и, прибывая, сокиквадрат возводят в куб.Из девичьего мираиди ко мне — любяк тебе приближусь, Ира,и обойму тебя.

232Владимир Гандельсман
33
ИМПРОВИЗАЦИЯ Узнаю вокзал я Витебский,помню, помню, на вокзалза киоском тем, за вывескойтой малёваной шагал, за квадратом красным, чёрным лимимобежного окнажизнь ютилась, утки чёлнамичуть покачивались на, там жила моя любимаяв царскосельскости своей,свежесть непоколебимаямартом веяла ветвей, ветви веяли дрожанием,воздух в искренности былсобственным неподражанием,леонидовичем сил, но особенно вечерними привкус гари был хорош, сигарет и спичек сернымиогоньками вспыхнув сплошь, и летел по небу огненныйза составом след души,с кисти жалостной уроненный живописца из глуши, ах ты, Витебский, немыслимомне сегодня проезжатьвсё, что вижу, и, завистливов полночь выглянув, дрожать, и заглядывать за грань тоски,с верхней полки спрыгнув жить.Так ли, так ли, милый Анненский?Выйдем в тамбур покурить.

233школьный вальс
34
ФИЛОСОФИЯ-II
Прими, грядущее, забывчивостьмою! Как ветви в голубомплывут, забыв ветров завывчивость,так, память, мы с тобой гребём:спиною к финишнейшей ленточкена финишнейшей из прямых,по Малой Невке (той же Леточке),при чувствах праздничных, при них.Лицом к тому, что удаляется,но проясняясь. То-то мрактобой и мной наутоляется,когда, устав, затихнем, как, — в колени лбы уткнув, угробившисьв дым на дистанции, в клочкахнебесных вод, утробно сгорбившись, — гребцы, — горошины в стручках.

234Владимир Гандельсман
35
ШАРМАНКА (6)
рыщет ли попятный тать?свистопляшут черти?Ничего не должен знатьчеловек о смерти.Не его это умадело, без участьячеловека смерть самаразберёт на части.Поплывёт душа, от насотделясь, над намислухом уха, зреньем глаз,насыщена днями.

235школьный вальс
ПОСЛЕСЛОВИЕ № 1
Екатерина Александровна,вот перочистка, я её,кружками вырезав материю,сшивал и дал ей бытие.Екатерина Александровна,вот это прописи мои,я букву А писал в них строчкою,и буквы Б, В, Г, Д, И.Екатерина Александровна,тетрадь в линеечку сдаю,в ней упражнения записаны,там есть ошибки, не таю.В ней промокашка розоватаялюбима из последних сил, –так нравится мне проступаниеи расплывание чернил.Екатерина Александровна,я вижу совершенно Васи адресую с юной робостьюВам «Школьный вальс».
ПОСЛЕСЛОВИЕ № 2
Олейников, что скажет критик?Что скажет критик, Пастернак?«Не из своих поэтик вытек!» — вот что он скажет. Он дурак.Люблю столбец Ваш, Заболоцкий!Раскидывавший вдрызг мозги,Гомер, люблю Ваш пафос плотский!Нам с Вами не до мелюзги.«Какой-то Йемен, — нюнит критик, — путь, золотящийся песком...»А я воскликну встречно: «Нытик!Что в Йемене тебе моём?» ПОСЛЕСЛОВИЕ № 3
Свершив мгновенно подвиг ратный,позволь мне попрощаться вдругс тобой, читатель всеобратный,брат всечитающий и друг.
Апрель–июнь 2003 г.

эссе

237эссе
КОНСТАТАЦИЯ ШАЛАМОВА
Бехтерева рассказывает, что сиротой она попала в детский дом, мимо которого по воле случая вынуждена ходить многие годы на работу, в Институт головного мозга. Ежедневно минуя это лобное место, она его не «вспоминает». Мозг не идентифицирует его с приютом горя, одиноче-ства, унижения и т. д. — вообще ни с чем.
«В этих камерах, — говорит Шаламов о тюрьме, — оставляли воспоми-нания о поруганной и растоптанной чести, воспоминания, которые хоте-лось забыть».
Шаламов и пишет книгу, материалом которой является то, что он хочет забыть. Не сентиментальная уловка: вывернуть, чтобы избавиться, но — почти противоестественный инстинкт — умолчать, рассказывая.
Случай весьма уникальный. Писатель словно бы обращается не к памя-ти, но к забвению. Это не расширение, но сужение горизонта. Не сложе-ние, но вычитание эмоции. Таков мир, который Шаламов описывает, и такова проза, которую он пишет. Не столько возможности, сколько огра-ничения. Ни один писатель, вероятно, не исчерпал в такой мере возмож-ности ограничений. «Писатель изменил, перешёл на сторону своего мате-риала» («Галстук»).
В самом имени «Варлам Шаламов» есть бурлацкое натяжение жил. Он впряжён в прозу, его лицо и шея — взгляните на фотографию — впряже-ны, они продолжение рассказа.
Эта проза работает на удержание чистоты тона, его нейтральности. Любая интонация всегда немного ложна, а в данном случае едва ли не оскорбительна в отношении к материалу. Как загнанный в лагерь человек, эта проза пытается установить последнее равновесие. Любой импульс (а интонация — есть выдох характера, то, что так легко полюбить или воз-ненавидеть) может его нарушить и лишить сил. Лагернику Шаламова равно невыносима весть, что он любим, и что любимая от него отказалась («Серафим»). Ему выносимо — ничего не знать. Он подобен древнему сосуду, пролежавшему тысячелетия в земле: одно прикосновение — и всё рассыпется.
Нет диктата ни языка, ни приёма. Скажем, язык приблатнённой соч-ности несомненно ведом каторжанину с 18-летним стажем. Но столь эле-ментарная в своём обаянии атака отменена. Приём? Есть нечто, похожее на приём, а именно: жизнеутверждающая нота, воскрешение лиственни-цы из-под обвала всего мыслимого и немыслимого зла. Я думаю, что Шаламов это делал не только потому, что страдание символично, что оно вопит проторённым воплем Иова — за что? почему — я? — и устремлено к обоснованию и воздаянию справедливостью, — не только по этим кров-ным и существенным причинам воскресает его лиственница, но и потому, что писатель платит некую дань традиции гуманистической литературы.

238Владимир Гандельсман
Разве что это скромное торжество можно счесть за приём — в той мере, в какой приём потрафляет читательскому вкусу и желанию.
Сила ГУЛАГа в ненависти, в расправе над мучителями. При всех ужасах, которыми ГУЛАГ поражает, читатель — торжествует. Ведь автор вырвался из трёхмерного пространства и восстановил справедливость: отпетые пала-чи низвергнуты, низвергнутые палачами — отпеты. Писатель, грубо гово-ря, явился Богом, который так желанен человеку, — Богом справедливо-сти.
Шаламов знает другое: справедливость не есть ремесло Всевышнего. Он называет негодяев негодяями, но расследования не ведёт и приговора не выносит. Он не оплакивает убитых — не знаю, есть ли в мире литература, которая столь же последовательно и намеренно не останавливается на таинстве смерти. И дело здесь не только в её лагерной обыденности (смерть — почти в каждом рассказе), но и в «искусстве», «умышленности» автора.
«Сухо щёлкнул выстрел, и Рыбаков упал между кочек лицом вниз».Вот и всё. В дальнейшем убитый может заинтересовать свидетелей
чисто практически: позаимствовать одежду.Это прямолинейное и равномерное движение, которое зарегистриро-
вать невозможно. Время остановлено, пространство замкнуто. Герой рас-сказа не знает, какой сегодня день, да и день ли это, его жилое простран-ство ограничено даже не бараком, но местом под нарами, которое к тому же занято, — руке негде размахнуться, чтобы ударить обидчика, остаётся рычать, кусаться — звереть. Комок злости — всё, что остается, по утверж-дению Шаламова, от человека. Причём — какой-то метафизической зло-сти, не направленной ни на кого и ни на что, в конце концов — ни на обидчика, ни на судьбу, ни на Бога. Но почему злость?
Трёхмерный мир. Четвёртой координаты — времени — нет. Трёхмерной кажется и проза: подлежащее, сказуемое, второстепенный член. Харак-терно, что книгу Пруста («Марсель Пруст») из этого мира крадут. Прусту с его вечным поиском четвёртой координаты здесь не место. Три измере-ния пространства сводятся к минимуму трёх измерений тела (существо под нарами). Человек без Бога, духа, души равен ему, своему телу. Проза Шаламова — это не сумма, но разность; она и есть это тело, совершающее простые движения.
В этом смысле Шаламов сравним, быть может, с Хармсом.Вот начало у Шаламова: «Ужин кончился. Глебов неторопливо вылизал
миску, тщательно сгрёб со стола хлебные крошки в левую ладонь и, под-неся её ко рту, бережно слизал крошки с ладони» («Ночью»).
Вот начало у Хармса: «Федя долго подкрадывался к маслёнке и наконец, улучив момент, когда жена нагнулась, чтобы состричь на ноге ноготь, быстро, одним движением, вынул из маслёнки всё масло и сунул его себе в рот» («Федя Давидович»).

239эссе
Вот убийство у Шаламова: «Сашка <...> чуть присел и выдернул что-то из-за голенища валенка. Потом он протянул руку к Гаркунову, и Гаркунов всхлипнул и стал валиться на бок» («На представку»).
Вот убийство у Хармса: «Но Федька догнал Сеньку и двинул его сахар-ницей по голове. Сенька упал и, кажется, умер <...> Николай с разорван-ным ртом побежал к соседям, но Федька догнал его и ударил пивной кружкой. Николай упал и умер» («Грязная личность»).
Не случайна эта пантомима, эта жизнь тел. Не до жира духовности.(Писатели жили в одно время, а по дневникам Хармса мы знаем, что с
ним творилось в конце 30-х годов).Мир Шаламова — абсолютный мир Ньютона, обитатели которого не
соотносят своё существование с чем-то другим. Того — нет. Ни в виде жизни, ни в виде смерти. Жизнь не настолько любима, чтобы к ней стре-миться, смерть не настолько страшна, чтобы от неё шарахаться. Особенно же нагляден здесь закон тяготения — тело, и так прибитое к земле, падает на неё целиком, плашмя, и уходит дальше, вглубь, в могилу, к центру при-тяжения.
Люди Шаламова, по преимуществу, не задают вопрос — за что? не ищут виноватого ни в своём, ни в чужом лице (как и автор). Автономный мир «без цели и Творца», в который другой (духовный) мир не допущен — религиозных разговоров арестанты не любят; рисунки, найденные героем рассказа «Детские картинки», вырывают из рук и выбрасывают в мусор-ную кучу, о книгах не вспоминают — «всё книжное было забыто».
Потворствуя ещё одной литературной ассоциации, можно допустить, что дух, который вычтен из героев Шаламова в аду Колымы, переместил-ся в райскую Европу — к Ульриху, высокоинтеллектуальному герою рома-на Музиля «Человек без свойств» (писавшемуся в разгар Колымы), — посетил в столь же «голом» виде, в каком оставил тела шаламовских дохо-дяг. Ему даны все степени свободы, но он — дух, потому ни одной из них воспользоваться не хочет. Ему надо соединиться с живой каплей тепла, чтобы себя сказать. Но — следовательно — и прекратиться.
И абсолютные координаты духа, и абсолютные координаты тела — суть тупики. В первом случае, когда дух противится воплощению, и во вто-ром — когда тело противится одухотворению, — жизни нет, и человек теряет свойства, теряет душу, которая лежит на скрещении холодных путей духа и тела.
Но вот избыточный дух (как избыточная фраза Музиля, перебирающая все возможности) вырывается из тупика и обретает на мгновение речь: «Вещи состояли, казалось, не из дерева и камня, а из грандиозной и бес-конечно нежной безнравственности, которая в тот миг, когда она с ним (с Ульрихом-духом — прим. моё) соприкасалась, становилась глубоким нравственным потрясением».
И одинокое тело умирающего поэта («Шерри-Бренди») вырывается из своего тупика и мыслит и чувствует сходным образом: «Жизнь входила

240Владимир Гандельсман
сама как полноправная хозяйка: он не звал её, и все же она входила в его тело, в его мозг, входила, как стихи, как вдохновение... Сейчас было так наглядно, так ощутимо ясно, что вдохновение и было жизнью; перед смертью ему было дано узнать, что жизнь была вдохновением, именно вдохновением».
Однако — это Ульрих и это Поэт. И это — мгновение, тот самый, ред-кий случай воскрешения лиственницы, просветления.
Но почему — возвращаясь к заданному выше вопросу — почему в чело-веческом остатке — злость? Этому ошеломительному свидетельству есть рациональное объяснение. Которого давать не следует. В одном месте Пруст замечает: «В этих своих первых стихах Гюго ещё мыслит, вместо того чтобы наводить на размышления». И так же, как Шаламов чувство-вал нравственную недопустимость разговоров на философско-моральные темы, — нам недопустимо говорить о каких-либо нравственных или фило-софских уроках, извлекаемых из его прозы.
Взглянув на картину Уорхолла — несколько десятков аккуратно выпи-санных баночек супа, — я вспомнил сны Шаламова: буханки хлеба или огромная банка сгущённого молока с облачно-синей наклейкой.
1992 г.

241эссе
ПИСЬМО
Через два дня после отправки письма, я вспомнил его дословно и с доса-дой увидел две стилистические небрежности. Письмо было абсолютно незначительное, адресат случайный, — тем замечательней, что я расплачи-вался за столь невинный грех смутной тревогой, — смутной, потому что не знал её происхождения, пока письмо не всплыло.
Периферия сознания очень щепетильна, но, возвращая ей этот пись-менный долг, я не в претензии, так как плачу не мелочности, но, повторяю, щепетильности, к тому же её появление льстит мне напоминанием, что я не окончательно огрубел.
Много лет назад я был поэтом, то есть — сплошь периферией собствен-ного сознания. Эту духовную область можно уподобить области географи-ческой: заштатный городок, гостиница, «командировочный, мать его так», какая-нибудь детсадовская площадка, вечереющие крики детей, среди которых — один печальный, стоящий, как ком в горле, как слёзы в глазах, потому что скоро за ним придёт папа, который когда-нибудь умрёт. Невыносимая слёзная область. Всю сознательную (а значит — вооружён-ную) жизнь человек отступает от своей чувствительности (вооружённые силы — это оксюморон; вооружённой может быть только немощь), отсту-пает от своего поэтического дара, пока, наконец, не теряет его из вида и тогда-то не обретает наглости заявить, что он поэт. Поэтом становятся, когда перестают им быть. Дар тайнослышанья, как известно, тяжёлый, и его надо прочно забыть ради явноговорения.
Повторяю, я сделал это довольно давно, и в нижеследующем письме, до сих пор не отправленном, в отличие от первого (с одной стороны, я пыта-юсь искупить вину за невыверенность первого, с другой — избегаю воз-можного умножения вины, если это, второе, окажется также не без погрешностей), — и в нижеследующем письме я всего лишь следую за тенью поэтического дара, к тому же принадлежащего не мне.
«Дорогой Н. Пишу тебе, слегка поддав, и, переведя градусы из алкоголь-ной системы в нервную, качусь по благословенной наклонной плоскости согласия и покоя, которые теперь даются мне только под наркозом, но зато, как прежде, позволяют на мгновение что-нибудь полюбить… Кстати, у пьянства есть и совершенно положительное основание: тоскливое стрем-ление вернуть миру неожиданный ракурс, под которым ты его видел, пока не выдохся. У людей бывают бесцветные глаза, не так ли? Они выдохлись, дорогой. Посмотри в зеркало и немедленно выпей. Пусть это будет тфаш-редурб, после которого на пару предложений перейдём на “вы”, — как-то последнее время панибратская полуправда мне в тягость, потому обращусь к вам официально, зато без экивоков.
Сборник стихов, который вы мне прислали, не хорош. Он плох. (Вы замечали, что если говорят о вашем произведении: это мне не очень… то

242Владимир Гандельсман
это значит: это мне очень не..?) Несказанно плох. Не думаю, что после этого вас заинтересуют детали – почему да отчего. Вот если бы хорош, тогда поподробней, верно? Да и я не расположен омрачать своей радости, вызванной отнюдь не вашей неудачей. Поэтому выпьем ещё по одной и перейдём опасную дорожку обратно. (Пока вы наливаете, добавлю, что одновременно с вашей отвратительно-авангардной книжкой мне попалась книжка другая, которая и подтвердила от обратного мои подозрения, что вы просто концептуальный идиот.)
Ну, выпьем. Не обижайся, но стихи, по возможности, не пиши. По невозможности-то их, слава Богу, и не пишут.
Поговорим о поэзии. Мимоходом подкидываю тебе тему для диссерта-ции – “Определение поэзии в русских стихах”. Это круто налившийся свист, добыча радия и пресволочнейшая штуковина, когда б вы знали из какого сора, песенное слово, петь по-свойски, даже, как лягушка, не при-хоть полубога, дароносительница грусти и т.д. и т.п. Итак, позволь препо-дать тебе пару уроков, как бы наугад открывая как бы случайно подвер-нувшуюся книжку не твоих стихов.
То то, то другое, то то, то другое,а хочется озера, сосен, покоя.
Среди ежевики, синики, черники –и голос души, словно тень Евридики.
И я очутился в той роще осенней,у берега детских моих впечатлений.
И больше не прибыль, не убыль, не гибель,а лист, пожелтелый, на водном изгибе
и жук, малахитовый брат скарабея,жужжащий в траве, от неё голубея.
Там, словно под тенью священного лавра,корова лежит с головой Минотавра,
египетским богом там кажется дятел,и я наблюдаю, простой наблюдатель,
за уткой, которая в реку влетела,как в небо — душа (только более смело?).
Недавно я прочитал статью о боготворимом тобой Набокове, под кото-рого, за неимением собственного стиля и в угоду тебе, я стилизую (стери-лизую) данное изложение, — я прочитал статью и с удивлением узнал, что роман “Дар” антинигилистический и — соответственно — написан ради главы о Чернышевском. Неожиданно, верно? Мы всегда считали, что

243эссе
он — о расплыве синеватой собаки, ну, в крайнем случае, о закатившемся мячике… Что бы сей критик сказал об этом стихотворении? Что бы он ни сказал, обращаю твоё внимание на последние две строки и на осторожное уточнение — «только более смело?» Ты ощутил животом (вслед за уткой) священный холодок? То-то. То то, то другое, то то, то другое, — так входят на кухню помыть посуду и начинают стихотворение. Я бы сказал, первая строка снята скрытой камерой. Бог знает, что себе бормочешь, ища пенс-не или ключи. Учитывая твою эрудицию, не унижаю сноской на автора. Не будет их и в дальнейшем. Надеюсь также, что ты не поймёшь меня превратно, — автор не эпигон. Наши критики-некрофилы любят только покойников, а значит — тождества, симметрию и прочую недвижимость, потому сходства, которые они неопрятно вычёсывают из текстов, на грани скотства. Признать за поэтом отличия — а отличаются, как правило, на больших глубинах, — нашим ныряльщикам не под силу: у них прокурен-ные лёгкие и зажмуренные глаза.
Ну а душа — моллюск. Но створки отворят,совсем невзрачные снаружи,и вдруг увидят мой несовершенный клад:некрупных несколько жемчужин.
Мне жаль, что я цитирую программные строки, но, заговорив о крити-ках, я невольно им уподобился. Заметь — уподобился. Так ведь можно договориться и до того, что автор, например, тонкий лирик, что его стихи с другими не спутать, что ему служит строем внутренний слух, управляю-щий гармонией…
Оставим джентльменский набор джентльменам и перейдём к тому, что я называю разногласной рифмой.
Я говорил глухому перуанцуна неизвестном, странном языке:вы разучились поклоняться Солнцуи ваши храмы — в щебне и песке.
И девушек и юношей прекрасныхвы в жертву не приносите давно,и я узнал из ваших взглядов грустных,что вам с богами быть не суждено.
Да, племя кечуа, потомки инков,империя — закрытая тетрадь.Огромных и таинственных рисунковв пустыне Накса вам не разгадать.
Я под дождём бродил по Мачу-Пичу.Дождями стёрт был идол-ягуар.

244Владимир Гандельсман
Я удивлялся грозному величьюне города пустынного, а гор.
Империя? Ни храмы, ни чертоги –людишки в бурых тряпках, бурый хлам.И лепятся хибарки и лачугик могущественным скалам и горам.
Ты слышишь, а? Империи не вечны.Развалины — на фоне гор и скал.Но перуанец — спал, лежал, беспечный,и не ему я это говорил.
Перуанцу — солнцу, прекрасных — грустных, и т. д. до конца. Ты слы-шишь, а? Какие-то сланцевые перья проплывают в первом четверости-шии, — жарко…
А я неожиданно вижу, как «редеет облаков летучая гряда». Почему так ясно зримо это вечернее небо? Дорогой! Потому что сквозь «редеет» сразу «реет» свет. Потому что туча (не важно, что у поэта облака) проносится сквозь «летучая». Наконец, и сама «гряда» внутри себя повторно редеет. В стихах растворено множество случайных смыслов, полагающихся на читателя. Всегда — помогающих ему (если автор попал в форму). Не кажется ли тебе, что невозможность перевода поэзии (неужели это пошлейшее соображение верно?) — в непереводимости, прежде всего периферийных смыслов? Жалко. Или, как сказано выше, — жарко. Но в четвёртой строфе дождь проливается на Мачу-Пичу и, смачивая рифму, заодно переключает её регистр: разногласная (ягуар — гор) звучит теперь во второй и четвёртой строках, а не в первой - третьей, как это было перед дождём, — и освежает. Вертикальное положение и слух бодрствующего автора и горизонтальное положение и глухота спящего перуанца предпо-лагают, согласись, лёгкую невстречу (то есть эту полурифму), за которой я внимательно следил. И не ошибся: идя по следу, я столкнулся с автором лицом к лицу в последней строке. Ведь не ему, в самом деле, он это гово-рил, не перуанцу. Ты слышишь, а? Оставим на растерзание хищникам утверждение, что империи не вечны и что автор как в воду глядел. А тебе я предлагаю продолжить моё наблюдение над разногласной рифмой на других страницах сборника. Извини, я пишу не статью, а письмо, в край-нем случае — путеводитель.
Пути, дороги. В Падуе Антоний,в Толедо Греко, херес и паэлла…
В Европе холодно, в Италии темно. Между прочим, руки брадобрея никогда не были для меня эталоном мерзости. Просто, по доверчивости, идёшь за интонацией и звуком, идёшь, идёшь, заходишь в привокзальный

245эссе
буфет, выпиваешь, глядя, как в цирюльне напротив окучивают головы, в которых, может быть, тоже проносятся эти строки, потому что на дворе холодно и темно, и мы в том возрасте, когда научились ненавидеть, и — одновременно — мелькает эта идея про руки брадобрея, и — одновремен-но — мне весна ничего не сказала, не смогла, может быть, не нашлась, только та-та-та-та-та вокзала та-та-та-та-та люстра зажглась, и, недо-вспомнив, ты захлопываешь эту фразу и выходишь к тому, с чего начал…
Писать прозу? Я не доносчик. Лучше стихи. Но они с возрастом прохо-дят, как не в данном случае, о котором продолжу. (Так сказать, “закусили в земной забегаловке, а теперь — в неземной ресторан”).
Хотя цвели, так нежно-пышно, вишни,и горлышко настраивала птица,и, может быть, прощал грехи Всевышнийи воздавал за доброе сторицей,
хотя на столик, бывший в полумраке,вдруг полилось полуденное пламя,и стали уши, острые, собакибольшими розовыми лепестками,
хотя сияла чашка и тарелка,и луч висел небеснейшим отрезком,и за окном фонтан вдруг загорелся,волшебный Феникс, несказанным блеском,
и всё окно зажглось алмазной гранью –но ты был грустен, смутно недоволен:тебе хотелось райского сиянья,которого ты тоже недостоин.
Слишком просто, ты скажешь, слишком просто. Наш общий знакомый К. (культурный, вообще-то, поэт) называет Есенина мычащей коровой. Ты ведь тоже так считаешь? Это по причине молодости (в твоём случае, не первой) и присущему ей снобизму. Между тем, каждое последующее поко-ление должно помнить, что оно предыдущее. А также, что снобизм очень недальновиден, так как действителен только при жизни данного сноба.
Но вот — прогретый солнцем дом. Ты помнишь, как солнце, войдя в окно, быстро и вширь передвигает стены и распаковывает вещи? Тебе зна-комо это мгновенное сотворение мира на твоих глазах? Ты любишь гол-ландцев? Фландрия, Феодосия, Флорида, — после смерти им стоять почти что рядом. Веерное (вермеерное) нарастание луча замедляется на больших розовых лепестках, чтобы ты их запомнил навсегда, и почти останавлива-ется, заходя на третий круг (третья строфа), хотя максимального свечения достигает именно здесь. Но это уже инерционный добор, вынужденный пойти на крайние меры (длины) в виде “небеснейшего отрезка”. Вспыхнув

246Владимир Гандельсман
напоследок привычной и потому уже несколько стёртой “алмазной гра-нью”, стихотворение гаснет. Цветок, извини за выражение, закрывается. Насколько существующее стихотворение лучше несуществующего, настолько вещественный разгон мира лучше умозрительного его свёрты-вания. Укажу только, что легчайшая неточность автора (быть может, пред-намеренная?), неточность, которая от тебя ускользнула (ведь ты писатель, а не читатель), эта неточность в том, что “тебе хотелось райского сиянья, которого ты тоже недостоин”. Думаю, автор хотел сказать, что уж рай-ского сиянья ты тем более недостоин. Но, оговорившись (?), он невольно ставит вещный мир выше пресловутого сиянья. Славная оговорка и слав-ное возражение тебе, что, мол, просто, слишком просто. Иногда — и сложнее и лучше, чем предполагал не только ты, но и сам автор (не рав-нодушный, надо сказать, ко всему райскому, не зря и воскликнувший: “…(и тра-ля-ля) — о дай создать стихотворение, прекрасней райских славос-ловий!”)
Мы давно отдыхаемна чужих берегах,здесь, над пальмовым раем,мой развеется прах.
Нет, какое там горе?(Ельник, холмик, снега?)Увезут в крематорий,да и вся недолга.
Ни тоски, ни обиды.Не вернёмся домой.Падай с неба Флориды,пепел серенький мой!
Нет, какие могилы?(Галка, осень, дожди…)На Ваганьковском, милый,не позволят, не жди.
Что ж, ничуть не обидно:ведь в могиле темнои берёзок не видно,и не всё ли равно?
Ни страны, ни погоста не хочу выбирать, падай с неба Флориды, пепел серенький мой. Не цепляйся, — не тебе я сегодня подыгрываю, но двум (и больше) голосам. Двух (и больше) голосов перекличка. Говоря до отвра-щения красиво, поэты составляют некий единый оркестр на неких воз-душных путях, а в оркестре, как ты понимаешь, все инструменты настрое-ны на одну ноту (“и тра-ля-ля…”) и исполняют единовременно одно про-

247эссе
изведение. Но — неизбежно разными голосами, — тут уж всё зависит от твоего слуха. Возьми на забаву несколько строк: “Я не вернусь в Египет, в Абу Симбел…”, “Зелёный скарабей, и чёрный скорпион, и ястреб камен-ный, огромный — Аполлон!”, “Не веря ни в какое перевоплощение…”, “…как надоели убийцы, убитые, разные мёртвые, быстро забытые!” — и проверь на слух, а я перейду к чему-нибудь другому. Выпьем по предпо-следней. Собственно, на примете осталось два соображения, час поздний и пора закругляться.
В первом я должен вернуться к Флориде. Ты не находишь, что в букве “Ф” два солнца? Потому и фосфор светится, и Феб светит, и финик сладок. И над КалиФорнией солнце. И над Флоридой. (В Санкт-Петербурге, есте-ственно, сани, снег, барабанная дробь, бурое небо и пр. И тпр.) Впрочем, это элементарно.
Второе соображение совершенно абсурдно — оно состоит сплошь из строк самого автора, которые то и дело беспорядочно проносятся в моём нетрезвом сознании. Пора остудить его периферийный пыл.
Помню двух флорентинок — и сестёр их в Уфицци, — овальные две виноградины слегка отражали закат, — полуулыбка мировой гармонии, — верблюды, cфинкс, я помню двух ягнят, — который из них, мой ангел при-тихший, понятней тебе? — под шум Атлантического океана, — займёмся летними полуднями, займёмся зимними закатами, — розовеет персик, дозревая, — слышно, как Лермонтов песню заводит на Тереке, — что ж, посидим над мелкой речкою, — дымком, примешанным к туману, — лиси-ца превратится в ласточку, а я ничуть не удивлюсь, я превращу её в ракеточ-ку, — я уезжаю на Галапагос за черепахами зелёными, — прощай, моя рыбка! прощай, червячок! — да — “тем не менее, однако, всё-таки” — меч-тать напрасный труд, что наши трупы въедут в Петроград, — грех легко-мыслия разве простится? — пускайтесь в путь и долетите (это не трудно совсем, нетрудно, нет), — чем загробней, милый, тем воздушней, — выпьем, душенька-подружка? сердцу будет веселей?..
Закончу на этом вопросительном предложении, потому что не знаю, поддержишь ли ты меня, хотя чисто стилистически выпить в данном слу-чае вполне уместно».
Вот всё, что я отправил адресату. Для полного счастья следовало бы при-вести первое письмо, пусть случайное и незначительное, но с двумя погрешностями, которые читатель с удовольствием бы нашёл. Однако, словно потворствуя своей лени и странной точности, в вышеприведённом изложении я допустил ровно столько же ошибок, так что не стоит удваи-вать и без того пристальное читательское внимание.
P. S.В письме цитируются стихи из книги Игоря Чиннова «Автограф».
1996 г.

248Владимир Гандельсман
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СИМПОЗИУМЕ
Я выскажу несколько соображений, которые скорее всего не покажутся вам новыми. Более того, я волен использовать готовые определения, не загромождая текст ссылками на авторов, потому что эти определения — мои, — в том смысле, что я понимаю только то, до чего сам додумался, а раз так, то не имеет значения, кому они принадлежат.
Историческое время провоцирует нас на подведение итогов. Конец XX века, конец тысячелетия и т. д. Историческое время — бухгалтерские счёты, на которых мы отщёлкиваем события и даты, гордясь прибылью или своим бесстрашием видеть убытки, умением анализировать прошлое, предсказывать будущее, короче говоря, своим умом и прозорливостью.
Историческое время провоцирует на высказывание, неизбежно повто-ряющее кого-то или повторяемое кем-то и, таким образом, облегчает жизнь, сбивая нас в группы, сообщества, партии, а заодно и с толку, обра-зовывая некую культурную мафию, поскольку мафия — это вопрос коли-чества: там, где больше одного человека, там мафия. В нашем случае — круговая порука интеллектуальной комплиментарности.
Историческое время избавляет человека от одиночества, вовлекая его в бесконечную игру с датами и событиями, либо присваивая ему почётный ранг сотворца Истории, либо, в позорных случаях, позволяя человеку над-менно откреститься от них в третьем лице: «они развязали войну...», или — переводя разговор вовсе в неодушевлённую область: «революция вино-вата...»
Историческое время энтропийно, оно является, по сути, чередованием войн и, потребляя человеческое мясо, предлагает ему взамен земную славу.
Собираясь на конференции и всемирные съезды философов, устанав-ливая рейтинги и заседая в жюри, мы играем роль художественного оформления, в котором так нуждается историческое время, ибо оно, подобно нам, не согласно быть тем, что есть, гонясь за прогрессом и зна-чительностью, похваляясь накопленным опытом и умудрённостью. Оно хочет, чтобы на привокзальной площади за её дела отдувался духовой оркестр культуры, обещая солдатам Истории триумф и вечную память, — духовой оркестр, который, в свою очередь, полагает себя исполнителем не иначе, как духовной музыки. С пеной у рта, в которой рождается не Афродита, но мыльный пузырь — ведь мыло варят из костей, — мы дока-зываем свою причастность мировой культуре и на меньший контекст не согласны.
В этой мнимой области, где по одной оси отложено мнимое событие, а по другой — мнимый (возомнивший) разум, пишется история культуры. В большинстве случаев она пишется теми, у кого есть время: критиками и искусствоведами, от безделия решившими, что чтение или разглядывание

249эссе
картин — это профессия, и совершающими свои лучшие открытия, следуя принципу: «А не подумать ли мне наоборот?»
Время идёт там, где идёт следствие, а следствие идёт, как известно, на поиски причины и, как преступник, которого казнят, уже не есть тот, кто совершил преступление (оттого и сомнительна смертная казнь, да и любое наказание), так и произведение, длящееся в культурном измерении, не имеет отношения к творческому событию, тем более что у творческого события причины нет.
Те события, говорит философ, которые, как принято считать, обновля-ют лицо земли и дают работу летописцам, значат куда меньше, чем пред-принимаемые в тишине и едва ли заметные историку непрестанные уси-лия человеческого духа понять тайну человеческого бытия. То же и в куль-туре.
Духовное событие не имеет ни прямо, ни обратно пропорциональной зависимости от силы исторического события, ни зависимости от истори-ческого события вообще. Дух веет, где хочет и когда хочет. Духовное собы-тие не имеет ни одного из тех измерений, которыми характеризуется событие историческое; и главное в нём — выпадение из времени: из всего накопленного, подручного, мыслимого, — в новизну одиночества.
Представьте себя в поезде. Вы интеллигентный человек, в купе прият-ные собеседники, чаёк-коньячок, при вас любовница, дома жена, впереди симпозиум и ваш замечательный доклад и т. д. и т. п. Полный набор. Остановка в чистом поле, вы спускаетесь покурить и отстаёте от поезда, в течение секунды теряя все звания: профессора, мужа, любовника, — связи с привычным оборваны, вы голый человек на голой земле.
Совершенно творческое событие, и если вы способны справиться с тем, что вы никто, то оказываетесь в точке непрерывной новизны воссо-здания себя, в точке неустанного рождения жизни перед лицом смерти. Именно это имеет в виду поэт, говоря, что искусство только и делает, что размышляет о смерти и творит этим жизнь. Нет ничего более естествен-ного строк другого поэта: «День каждый, каждую годину / привык я думой провожать, / грядущей смерти годовщину / меж них стараясь угадать». В этой точке невозможно родиться раз и навсегда, потому что она пульси-рует. Каждый раз вы вновь и вновь выпадаете в неё — в точку непрерыв-ной дискретности.
Возвращаясь к железнодорожной метафоре: в следующую секунду всё утрачено вторично: метафизический доброкачественный страх сменяется обыкновенной обывательской трусостью, и вы бросаетесь — хотя бы мыс-ленно — вдогонку.
И здесь уместно указать на ещё одно время: психологическое. Оно свя-зано с памятью, ожиданием и надеждой, с прошлым и будущим. Это эле-ментарно: завтра я начну новую жизнь. Но это то же самое, что сказать: с пятницы я начну верить в Бога. Сослагательное наклонение, в абсурд-ном варианте звучащее: «Если бы у меня было время...» — в абсурдном,

250Владимир Гандельсман
потому что оно и тратится на этот бесплодный вопрос, пошлейшее сосла-гательное наклонение или ожидание чего-то желанного в будущем не имеют отношения к творчеству, когда все психологические связи разорва-ны. Психология — это паутина в лесу отношений. Но какие отношения у Пушкина с Анной Петровной Керн в стихотворении «Я помню чудное мгновенье...»? Никаких.
Когда пишется стихотворение, времени, а значит и психологии, нет. Поэт как бы приносит его в жертву, и оно в перегонном кубе состояния (если угодно, назовите его вдохновением) кристаллизуется, благодарно возвращаясь в виде неприкосновенного настоящего, ибо время в стихотво-рении — всегда настоящее, даже если глагол ослаблен вялым суффиксом прошедшего времени «л». «Я вас любил...»
С творчества Пушкина начинается тот человек, которого мы знаем: раз-двоенный, рефлектирующий, ироничный. На выпускном акте в 1817 году юноша Пушкин читает «Безверие». Его герой — «лишённый всех опор отпадший веры сын», он «Бога тайного нигде, нигде не зрит», «ум ищет божества, а сердце не находит». В конце жизни в 1835 году Пушкин пишет «Странника»: «И вот о чём крушусь: к суду я не готов, и смерть меня стра-шит...», — и хотя это говорит человек, проделавший большой духовный путь, но и всё тот же, который написал «Безверие».
Этот человек проходит сквозь XIX век и выходит в XX, съев собаку Достоевского. Этот человек — в литературе или в жизни, не важно, — рас-качал исторический и психологический маятник настолько, что его ампли-туда стала угрожающей. Особенно если учесть специфически русское отношение к литературе, которая, по словам исследователя, уже со второй половины XVIII века заняла «традиционное место церкви как хранителя истины».
Нечему удивляться, что при таком отношении буквы выпрыгивают из книг, соединяются в слова, иногда, в спешке, перепутав порядок и превра-щаясь в абракадабру, всё это выстраивается в предложение, которое в силу своего безумия уже не нуждается в спросе, и в результате мы имеем абзац, а это, согласитесь, звучит устрашающе. Буквы становятся людьми. А люди, вообразив себя героями литературных произведений, начинают спасать мир. Нет ничего опаснее героического стереотипа, который не что иное, как начало преступления.
Государство — стереотип. Государственный преступник — тавтология.Государство — закон. Человек — вера. Закон относителен, поскольку
основан на понятиях нравственности, разумности и пр. Вера абсолютна, истинна и незаконна, поскольку никаких оснований для неё нет. Если государственные люди способны смириться со своей несвободой и не мстить свободному художнику за то, что он живой, то слава Богу. Россия в этом не преуспела ни в XIX, ни тем более в XX веке.
В своей предсмертной речи «О назначении поэта», посвящённой Пушкину и прочитанной в решающем для русской культуры 1921 году,

251эссе
А. Блок произносит знаменитые слова о «покое» и «воле»: «Они необхо-димы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнима-ют. Не внешний покой, не свободу либеральничать, а творческую волю, тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем».
Всё так. Но если на мгновение отбросить логику ради истины, то сле-дует сказать, что всё совсем не так. Время насильничает, но русская поэ-зия, в отличие от русской истории, блистательна.
Предложенную нашей встречей тему я бы перевернул: не русская поэ-зия в контексте мировой, но мировая — в контексте русской. Тема эта столь же неисчерпаема, сколь и очевидна. Потому я её не касаюсь и завер-шаю свою: творчество и время.
Поэт, который подтверждает мои соображения о природе творчества, — конечно, Мандельштам. Точнее, его жизнь и его стихи — источник моих соображений. Исчезновение времени — я говорю не о каких-то его при-метах, которые, естественно, есть, но скорее о временном, — исчезновение описательности, когда слово, сказанное из самой глубины существа, ста-новится окончательно ясным, словно бы не заботясь о смысле, но являясь им, — это поздний Мандельштам.
Мы знаем, что психологическое время пыталось отомстить ему безуми-ем, а не справившись, обратилось за помощью ко времени историческому, у которого есть для этого насильственная смерть. Но не об этом речь. Речь о полном совпадении природы человека и природы творчества. О непри-думанном и неизбежном слове. Историческое время расправилось с поэ-том не потому, что он игнорировал Историю, а потому что он взял на себя её миссию, точнее — стал ею, в том смысле, в каком Ахматова писала: «Я стала песней и судьбой...» Он стал в ней Словом, а не словом о ней, и отныне он будет о ней свидетельствовать, а не наоборот.
Мандельштам — предельный случай слияния песни и судьбы, и если уж рассматривать русскую поэзию в контексте мировой, то её беспример-ный вклад — в этой неразрывности жизни и поэзии.
В лицо морозу я гляжу один:Он — никуда, я — ниоткуда,И всё утюжится, плоится без морщинРавнины дышащее чудо.
А солнце щурится в крахмальной нищете –Его прищур спокоен и утешен...Десятизначные леса — почти что те...И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб, безгрешен.
Январь 1937 г.
Здесь есть всё. Событие искусства самим своим существованием делает невозможным существование чего-либо ещё по соседству, в частности,

252Владимир Гандельсман
оно не переносит высказываний о себе. Тем не менее отметим, что «в лицо морозу я гляжу один...», что это тот самый голый человек на голой земле: «я — ниоткуда», что он в 37-м году видит «равнины дышащее чудо», что скорость звука, достигая скорости света — «и снег хрустит в глазах», — устраняет время и — соответственно — греховность как его неизбежное следствие: «и снег хрустит в глазах, как чистый хлеб, безгрешен».
Я хочу завершить свой доклад двумя предложениями:1. Если Пушкин создал человека, которого мы хорошо знаем («к суду я
не готов и смерть меня страшит»), то человека Мандельштама («я к смер-ти готов») пока нет, и в этом — будущее русской поэзии.
2. Писать стихи — убивать время.
Февраль 2000 г.

253эссе
ВТОРАЯ РЕЧЬ
27 декабря 1938 года умер Осип Мандельштам.Мне кажется, для читателей поэзии моего поколения Мандельштам —
самое большое событие XX века. Никто не упоминался в наших разговорах так часто и с такой любовью.
Никого так бесконечно не цитировали. «Звук осторожный и глухой…», или «Мы с тобой на кухне посидим…», или «Читателя! Советчика! Врача!» — какая разница… Его слова произносились к месту и не к месту, точно так же, как это бывает и с нашими собственными. Но таких собственных мы не знали.
Вторая речь, которая появилась благодаря Мандельштаму, была много лучше, хоть он и предупреждал: «Не сравнивай: живущий несравним». Я с лёгкостью мог бы написать эту (и чуть ли не любую) статью, составив её сплошь из стихов или высказываний Мандельштама.
Вот одно из них, со слов Надежды Яковлевны, о творчестве: «Если людям надо, они сохранят». Сейчас литератору, который переживает конец века, как декадентская барышня, и в связи с этим впадает в истерию само-возвеличивания, следовало бы устыдиться и успокоиться, вспомнив эту фразу. И следом другую: «От лёгкой жизни мы сошли с ума».
Чем так дорог Мандельштам? Конечно, стихами. Вспомните, как вы прочли или услышали впервые: «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз, / до прожилок, до детских припухлых желёз. / Ты вернулся сюда, так глотай же скорей / рыбий жир ленинградских речных фонарей». С тех пор от второй речи не избавиться.
Как никто из поэтов Мандельштам чувствовал свою посредническую роль в переводе невыразимого, невозможного, первоначального — «быть может, прежде губ уже родился шёпот» — на человеческий язык. В перево-де той беспримесной правды, к которой он был прикован не меньше, чем к вещному миру, и которая не замешана на психологии, на выяснении отношений, ни даже на высоких чувствах, «поэтичных» и самодовольных. «Витийствовать не надо». И потому: «Да обретут мои уста / первоначаль-ную немоту, / как кристаллическую ноту, / что от рождения чиста!» («Silentium»). И далее, не только следуя Тютчеву, но и развивая его: «…и сердце сердца устыдись, / с первоосновой жизни слито!» — я имею в виду это «устыдись».
Но прочтём хотя бы одно стихотворение целиком:
Я слово позабыл, что я хотел сказать.Слепая ласточка в чертог теней вернётсяНа крыльях срезанных с прозрачными играть.В беспамятстве ночная песнь поётся.

254Владимир Гандельсман
Не слышно птиц. Бессмертник не цветёт.Прозрачны гривы табуна ночного,В сухой реке пустой челнок плывёт,Среди кузнечиков беспамятствует слово.
И медленно растёт, как бы шатёр иль храм,То вдруг прокинется безумной Антигоной,То мёртвой ласточкой бросается к ногамС стигийской нежностью и веткою зелёной.
О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,И выпуклую радость узнаванья.Я так боюсь рыданья Аонид,Тумана, звона и зиянья.
А смертным власть дана любить и узнавать,Для них и звук в персты прольётся,Но я забыл, что я хочу сказать,И мысль бесплотная в чертог теней вернётся.
Всё не о том прозрачная твердит,Всё ласточка, подружка, Антигона…А на губах, как чёрный лёд, горитСтигийского воспоминанье звона.
Речь о той самой верности двум мирам: безличному и безусловному, тому, где зарождается новое слово, и осязаемому, человеческому, когда, едва родившись, оно уже стыдится своей неновизны.
В частностях мандельштамовских стихов пусть разбирается логика, всё равно не разберётся. (Я вычитал недавно остроумное предположение, что логика заменяет отсутствующую совесть и что для этого-то она человече-ством и используется. Созвучна этому и строка поэта: «Разве есть у фило-лога стыд?»)
В целом — всё ясно без логики и вопреки ей.Слово, беспамятствующее в царстве теней, в ночи, там, где сухая река и
пустой челнок, где всё призрачно и прозрачно и — лишённое тела — истинно, — слово растёт, прорастает в физический мир, где, конечно же, рискует стать мыслью изречённой (ложью), и потому в ужасе бросается назад — «то вдруг прокинется безумной Антигоной…» — и с вестью о правде «мёртвой ласточкой бросается к ногам с стигийской нежностью и веткою зелёной», напоминая одновременно библейского голубя и антич-ного марафонца. (У Софокла Антигона говорит о Правде как о том, что живёт «с подземными богами», и о себе, уподобляясь мандельштамовско-му слову: «До срока умереть сочту я благом» и «Ни с живыми, ни с умер-шими не делить мне ныне век!»)

255эссе
Слово, подобно ласточке, снуёт между царством теней и живым. Но как хочется проклюнуться: «О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд…» — как хорош и понятен этот стыд! Как хочется знать смертную радость, но — «но я забыл, что я хочу сказать, и мысль бесплотная в чер-тог теней вернётся».
На деле всё не совсем так — слово произнесено. Мандельштаму в твор-честве удалось быть и там и здесь. Он, возможно, единственное в русской поэзии явление, когда смысл угадан звуком. Не случайно бесплотные ноты он видел как связки сушёных грибов. Одно из лучших наблюдений сделано в самом начале мандельштамовского пути С. Маковским: «Никогда я не встречал стихотворца, для которого тембр слов, буквенное их качество, имело бы большее значение».
Неотвязность мотива «Ласточки» — в этом снующем, «перелётном» слове. Взгляните, с какой частотой существуют одни и те же или одноко-ренные слова: слово — слово (1-я строфа — 2-я строфа), ласточка — ласточка — ласточка (1 — 3 — 6), с прозрачными — прозрачны — прозрач-ная (1 — 2 — 6), в беспамятстве — беспамятствует — воспоминанье (1 — 2 — 6) и т. д.
А если вы сопоставите подчёркнутые словосочетания в строках «слепая ласточка в чертог теней вернётся» (1) и «мысль бесплотная в чертог теней вернётся» (5), то увидите почти анаграмму: они практически равны в своём буквенном качестве: только по три буквы в каждом не совпадают. Всё верно, слепая ласточка и есть мысль бесплотная. «Блаженное, бес-смысленное слово» произносится только в беспамятстве, а слепая ласточ-ка, подобно слепому Эдипу (на которого «наводит» Антигона), — ласточка духовно прозревшая.
Мандельштама читать радостно, потому что ему радостно писать. Он не заботится о том, чтобы мы непременно догадались, что «Фета жирный карандаш» идёт от fat (англ), fett (нем., идиш) — жирный, или что «С миром державным я был лишь ребячески связан» можно читать как «С миром, Державин, я был лишь ребячески связан», что это попутно обра-щение к государственному вельможному человеку, который, кстати, устриц любил и на гвардейцев смотрел не исподлобья, и кому египтянка (цыганка) плясала: «Возьми, египтянка, гитару…» (у Мандельштама она отсутствует таким образом: «…я не стоял под египетским портиком банка, / и над лимонной Невою под хруст сторублёвый / мне никогда, никогда не плясала цыганка».) Не заботится, потому что доверяет своему дару. Удивление, знакомое чуть ли не любому человеку: «Дано мне тело — что мне делать с ним, / таким единым и таким моим?», но с годами не растерянное, — Мандельштам и в последних стихах спрашивает: «В чьём соцветьи истина?» — это и есть его свободный дар.
Свобода Мандельштама точна, а точность — свободна. Современный поэт, злоупотребляющий «пьяным» стихом, имитирующим сложность так называемого внутреннего мира, должен помнить, что поэзия по

256Владимир Гандельсман
Мандельштаму «…единственно трезвая, единственно проснувшаяся из всего, что есть в мире».
Я не хочу касаться его биографии. Она известна и слишком трагична, чтобы подвергать его этому лишний раз. Скажу лишь, что Мандельштам дорог не только стихами. Благодаря ему мы знали, что нельзя списывать своё жизненное поведение на смутные времена, что есть мысль, а не задняя мысль, что ясность мысли свободна оставаться таковой в любые времена и что как бы мы себя ни вели, мы вели себя хуже.
Прежде чем закончить, я решил уточнить место гибели Мандельштама и, прочитав «Вторая речка», подумал, что не случайно она рифмуется с Чёрной речкой и с названием моей статьи.
2000 г.

257эссе
ДИАЛОГ С УЧАСТИЕМ ИВАНА ИВАНЫЧА
Написано к 70-летию ноябрьских стихов Мандельштама 1933 года
Старик Иван Иваныч Амелин, живший в соседнем подъезде, дело про-исходило в моём ленинградском детстве, среди множества рифмованных прибауток и присловиц повторял одну, которую мне посчастливилось запомнить:
Ах, доживши кой-как до тридцатой весны,не скопил я себе хоть богатой казны.
Эти стихи предварялись рассказом (многократно по старости повто-рённым), как в 30-е годы жил он в Москве и как чинил батарею у одного, а тот стоял над душой и приговаривал «Ах, доживши...», и Иваныч, пом-нится, его ещё спросил, что такое «казны», а тот, помнится, ещё рассмеял-ся: «казны, казны», — как будто с кавказским акцентом слово «казнь» говорил. «Казны, казны!» «А правил тогда сам с усам...», — многозначи-тельно добавлял старик.
И затем, уже за пределами детства и старика, последовало несколько прекрасных дней, между которыми простирались годы, и они образовали золотую цепочку, которую я и протягиваю тебе, читатель.
В первый из прекрасных дней я нашел эти строки у Н. А. Некрасова:
Я за то глубоко презираю себя,что живу — день за днём бесполезно губя;
что я, силы своей не пытав ни на чём,осудил сам себя беспощадным судом
и, лениво твердя: я ничтожен, я слаб! –добровольно всю жизнь пресмыкался как раб;
что, доживши кой-как до тридцатой весны,не скопил я себе хоть богатой казны,
чтоб глупцы у моих пресмыкалися ног,да и умник подчас позавидовать мог!
Я за то глубоко презираю себя,что потратил свой век, никого не любя,
что любить я хочу... что люблю я весь мир,а брожу дикарём — бесприютен и сир,
и что злоба во мне и сильна, и дика,а хватаясь за нож — замирает рука!

258Владимир Гандельсман
В другой прекрасный день — временной последовательности в их пере-числении не будет — я прочитал комментарий:
«По поводу этого стихотворения В. Гиппиус заметил, что это “был пер-вый у Некрасова отзвук Кольцова, и не только потому, что в основе четы-рёхстопных анапестов, зарифмованных как двустишия, здесь угадываются двустопные анапесты Кольцова, но и потому, что, начавшись лермонтов-скими самообличительными нотами, стихотворение, начиная с четвёртого двустишия всё больше сбивается на кольцовские мотивы и на кольцов-ские же, близкие к народным, интонации”».
Кто такой этот Гиппиус? И был вечер, и было утро: день третий. В.В. Гиппиус, у которого Мандельштам учился в Тенишевском училище и о котором писал в «Шуме времени»: «...учитель словесности, преподавав-ший детям вместо литературы гораздо более интересную науку — литера-турную злость» и «власть оценок В. В. длится надо мной и посейчас», — Гиппиус не мог в своём преподавании обойти стороной Н.А. Некрасова с пристрастием последнего к слову «злость», «злобный» и т. д. Поэты, упо-мянутые в комментарии В.В. Гиппиусом, появятся у Мандельштама в Воронеже: и Лермонтов в «Стихах о неизвестном солдате»: «И за Лермонтова Михаила / я отдам тебе строгий отчёт...», и Кольцов: «Я около Кольцова, / как сокол окольцован...»
Но прежде, до Воронежа, — Некрасов. В знаменитой «Квартире» («Квартира тиха, как бумага...), написанной в ноябре 1933 года, строфа, не вошедшая в канонический текст, звучит так:
И столько мучительной злоститаит в себе каждый намёк,как будто вколачивал гвоздиНекрасова здесь молоток.
Вот она, «злость» Некрасова и Гиппиуса. Среди прочих прекрасных дней в цепочке, которую я преподношу тебе,
читатель, были дни чтения книги Надежды Мандельштам: «В этот период у О. М. как бы боролись два начала — свободное размышление и граждан-ский ужас. Я помню, как он говорил Ахматовой, что теперь надо писать гражданские стихи, — давайте посмотрим, кто из нас с этим справится....» И ещё, по поводу посещения Пастернака и его слов: «“Ну вот, теперь и квартира есть — можно писать стихи”, — сказал он, уходя. “Ты слышала, что он сказал?” — О. М. был в ярости... Он не переносил жалоб на внеш-ние обстоятельства — неустроенный быт, квартиру, недостаток денег, — которые мешают работать. По его глубокому убеждению, ничто не может помешать художнику сделать то, что он должен, и обратно — благополу-чие не может служить стимулом к работе. Не то чтобы он чурался благо-получия, против него он бы не возражал... Вокруг нас шла отчаянная борьба за писательское пайковое благоустройство, и в этой борьбе кварти-

259эссе
ра считалась главным призом. Несколько позже начали выдавать за заслу-ги и дачки... Слова Бориса Леонидовича попали в цель — О. М. проклял квартиру и предложил вернуть её тем, для кого она предназначалась: чест-ным предателям, изобразителям и тому подобным старателям...»
В записной книжке Мандельштама о Пастернаке: «Набрал в рот вселен-ную и молчит. Всегда-всегда молчит. Аж страшно».
В этот период кто-то, услышав стихи Мандельштама, сказал пренебре-жительно: «Некрасовщина какая-то...»
И тут, на этих словах, всё сошлось: Иваныч, повторяемое им двустишие, квартира с бульканьем влаги в батарее, которую он чинил, и т. д. и т. п., — и я понял, откуда эти стихи, их размер, их неизбежная однозначность и граж-данская прямота — те самые «гвозди Некрасова», которые Мандельштам вколачивает в собственный гроб (а он и говорил: «Эта квартира как гроб»), их «казнь» и их кавказский акцент в укороченных строках:
Мы живём, под собою не чуя страны, наши речи за десять шагов не слышны.
А где хватит на полразговорца, там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны, а слова, как пудовые гири, верны,
тараканьи смеются глазища, и сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей, он играет услугами полулюдей,
кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет.
Как подкову дарит за указом указ – кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него, то малина и широкая грудь осетина.
В заключение несколько слов о магии чисел. Минуло 70 лет с тех пор, как написаны эти стихи. В «Квартире» есть строки:
Давай же с тобой, как на плахе,за семьдесят лет начинать,тебе, старику и неряхе,пора сапогами стучать.

260Владимир Гандельсман
Что значат эти «семьдесят лет»? Что можно на плахе «начинать»? Кто этот старик и неряха? Сам поэт, которому в 33-м году было едва за сорок? Может быть, «за семьдесят лет» тому отрезку времени, отсчёт которого начался в 1861 году, во многом решающем для истории России? Я не знаю наверняка. Об этом (и не только) я спросил моего друга поэта Валерия Черешню.
Вот цитаты из его письма: «Ритмическое совпадение, которое ты обнаружил, мне кажется очень
существенным, тем более, что в обоих стихотворениях предметом являет-ся злобная и низкая натура (с поправкой на самоистязательный лиризм Некрасова). К тому же, мандельштамовское стихотворение естественным образом разбивается на двустишия, а то, что на допросе он его записал двумя восьмистишиями, — то допрос на то и допрос <...> Что касается совершенно таинственного “за семьдесят лет начинать”, то у меня только одно предположение: как это часто бывало у М-ма, произошла замена близко звучащих слов, и если читать “отвечать”, то это расплата за семь-десят лет народническо-большевистской идеологии (кстати, разница в возрасте у Некрасова и М-ма — ровно 70 лет). В самом деле, странно на плахе что-либо начинать, а вот отвечать очень даже естественно».
И ещё: «Можно сказать, что природно-гражданственный Некрасов всю жизнь пробивался к лиризму, как природно-лирический Мандельштам волевым усилием выковывал в себе гражданственность, и в этом встреч-ном разнонаправленном движении они должны были пересечься».
Добавлю, что и cоветская власть, принявшая такое горячее участие в жизни Мандельштама и многих-многих других «неизвестных солдат», просуществовала 70 лет.
И последнее.Время словно бы снимает с человеческих поступков оттенок нравствен-
ности. Какая нам разница, кого и за что убивал Нерон? Остаётся портрет более или менее крупного злодея, чьи злодеяния нас по существу уже не волнуют. Более того, чем больше пролито крови, тем вернее он приобре-тает черты величия. Ситуация со Сталиным была бы особенно безнадёж-ной, если бы Мандельштам навсегда не запечатлел этого упыря, насосав-шегося крови, в окружении бледных поганок.
2003 г.

261эссе
ПОЭЗИЯ КАК РЕЛИГИЯ. РИЛЬКЕ
Бог детства — тот, кто позволяет бытию быть. Только в этом его сотвор-чество: быть прозрачным для света, не отбрасывая собственной тени.
Таков ранний Бог, а в искусстве поэзии — ранний Аполлон, ещё не взба-ламученный и не затемнённый вопрошаниями поэта. Он пребывает до диалога, ему нечем заняться кроме собственной прозрачности, его уста «упиваются своей улыбкой, как будто песню собственную пьют» («Ранний Аполлон»). По сути дела, пока только Бог единый и есть.
Явление, замкнутое на себя, — будь то вещь, божество или человек, — явление, всякий раз обречённое в себе умирать или в страстном усилии вынужденное перерастать самоё себя, выйдя за пределы, отпущенные раз-умом, — таков предмет, предстоящий жизни и поэзии.
Есть на этом пути завоевания или нет, но лоб Аполлона ещё холоден для лавров, а брови не превратились в розарий, когда «листья, каждый по себе, растут».
Следом, как начало человека, появляются слёзы, и мир, вещный и веч-ный, предстаёт в их преломлении. Слёзы — суть избыток. Маятник кач-нулся влево или вправо, в сторону радости или горя, в сторону равнодушия или пристальности («и даль свободную романа я сквозь магический кри-сталл ещё не ясно различал...» — этот кристалл — та же слеза вглядыва-ния) — неважно, куда качнулся маятник, и почему качнулся — неведомо.
Но герметичности больше нет, роса выпала, жизнь началась.Слёзы — это и слёзы прощания с недостижимой отныне цельностью
«таинственного детства». Почему — недостижимой? Почему прощание неизбежно? Вопрос равносилен вопросу происхождения жизни. И смер-ти. Плачущая девушка знает только, что «во мне, меня осилив, воем воет жажда крыльев или, может быть, конца» («Плач девушки»).
(Как сказал один писатель: «Если мы плачем без всякого повода, это признак того, что мы всё поняли». Чистая душа, не затемнённая опытом, так и плачет, хотя её понимание вне её разумения.)
Если счесть происхождение жизни вольным или невольным избытком Бога1, то сама жизнь обречена — тогда это попросту в её крови — быть в попытке превосхождения или самоумаления себя, неравенства самой себе.
В попытке вдохнуть себя в то, чего нет в её измерении, и поймать за хвост время, бессмертие, тайну мира. Как, опираясь на собственные рёбра, выскочить из себя? Стихи с повторением однокоренных слов — «воем воет» — в той же неотвратимой и мучительной попытке2.
1 См. примечания к эссе на стр. 275-280.

262Владимир Гандельсман
Блаженства остановки и равенства себе нет. О, песнь любви сладка, но она тем более не убаюкивает: «Что сделать, чтобы впредь душа моя / с твоею не соприкасалась? Как / к другим вещам ей над тобой подняться?» («Песнь любви»). Обретение себя в чувстве к любимому, в любимом, — обретение равенства означает невозможность возвращения духа к само-возгоранию, точнее — к ощущению себя, переполняющего себя собой, к самовозрождению. Любовь (и любое человеческое, то есть разделённое с другим) есть укрытие от сути себя.
«Пока в объятьях прячемся устало, / как знать нам, что из нас самих грозит / прорваться то, что до сих пор пугало, — / предательство, и нас не пощадит» («Восточная песнь дня»). Предательство друг друга во имя геро-ического духовного движения в одиночку. Движение совершается не из осмысленной точки равенства (в ней оно умирает), но из абсурдной точки тождества. Из тупика тождества: ничего, кроме тебя, нет. Ты причина себя. Ты же и следствие себя. Здесь зияет такая дыра апатии, что в ней либо исчезнет то, чего нет, либо из ничего завяжется узел жизни.
Один из определяющих моментов в развитии человека, которого он, как правило, не помнит: постижение — впервые — своего отражения в зеркале как своего. Расщепление атома сознания. Ветвистая реакция взры-ва (воплощённая в нашем случае в поэтических строках), ведущая к пол-ной тишине. Почему к полной тишине? Не обязательно, но весьма часто поэтическая вера иссякает. Человек словно бы устаёт находить себя в точке живого бытия, а скорее — устаёт узнавать себя в ней как событие, каждый раз заново. Пока лягушка молода, она прыгает в кувшине со сме-таной и сбивает её в масло, а в старости... Хайдеггер, прикрывшись пле-дом, смотрит футбол. Если он и видит своё отражение, то в экране теле-визора, и оно спасительно заштриховано беготнёй национальной сбор-ной. Возможно, он устал, и его герой уже не Рильке или Гёльдерлин (и он уже не «рилькает и гёльдерлинит», по выражению К. Свасьяна), а Беккенбауэр3.
Давида согревает молодая жена Ависага. «Он зяб. И вслушивался в смутный ход / своей последней крови, как собака» («Ависага»). Человек в образе собаки держит свой след до конца, и образ судя по всему будет зарыт там же, где человек. Вот путь: от первого чистого отражения в зер-кале (или в воде) до последнего, когда зрение угасает, — в собственной крови. Неотступное полагание на себя. Впасть в собственную смерть, чтобы почувствовать то, о чём Давид поёт перед Саулом: «Чувствуешь, как нас преобразило / и как плоть становится душой?» («Давид поёт перед Саулом»).
Не где-то вовне, но внутри самого вещества зарождается сила веще-ства.
Иисус Навин говорит перед вождями: «Как под Иерихоном, скаля зубы, / весь многотысячный собор затих, / но только в нём самом гремели трубы, / расшатывая стены жизней их...» («Наказ Иисуса Навина»).

263эссе
Всевластие человека таково, что он повелевает Богом. Он создал Бога, не наоборот. «И Бог пошёл, напуганный, как раб, / и солнце, как фонарь держал над сечей / людских племён, покуда не ослаб, — / так захотел сей пастырь человечий». В Библии, конечно, Господь ведет Иисуса Навина и народ его.
Как тут не вспомнить апокалиптический абсурд «Чевенгура» и слова Дванова: «Ибо несомненно — после завоевания земного шара — наступит час судьбы всей вселенной, настанет момент страшного суда человека над ней». Не человека судят, человек судит.
Мир, отграниченный от всего потустороннего, от Бога, концентрирует-ся целиком в человеке и набирает критическую массу. Взрыв и разбегаю-щаяся вселенная его неизбежны. И совершенно закономерно (наблюдая, на самом деле, себя!) учёный приходит к теории большого взрыва как к моменту образования мира.
Воспевается не возвращение блудного сына, но его уход. Причём уход — «ото всего». «...От несмиренья, / от сущности своей, от нетерпе-нья, / от тайных упований и тоски — / и всё, чем полон, в чём твоё нача-ло, / всё это вдруг отбросить и презреть, / и одинокой смертью уме-реть. — / Но этого ль твоя душа алкала?» («Уход блудного сына»).
Нарушается любой мыслимый предел. Если бы герою стихотворения сообщили, что не он один избрал такой уход и такую смерть, то он отрёк-ся бы и от этого варианта (недаром Рильке преследовала идея своей смер-ти: каждый несёт в себе лишь ему предназначенную смерть, и умереть надо своей смертью). Если бы стихотворение могло длиться вечно, то дли-лось бы вечно и отрицание, ибо любая остановка — утрата свежести и неповторимости не быть никем. Уйти ото всего, что хочешь. И если твоя сущность — бунт и несмиренье, уйти и от них. Уйти «от сущности своей». Зачем? Чтобы потом, словно бы удвоив бесконечность, спросить: «Но этого ль твоя душа алкала?» Оказывается, что он не хотел того, что он хотел: уйти «от сущности своей».
Есть безостановочное движение, есть сплошная бесприютность, и это похоже на непрерывное обращение к Богу, которого непрерывно нет, чей отклик был бы губителен, потому что если Бог есть, то мне не надо, мне надо то, что ЗА любым явлением, и потому я тороплюсь, я не хочу дожи-даться отклика (а вдруг ответит? и тогда никакого «за» не будет), и, опере-жая его возможность, я иду и иду... В отваге? в трусости? в героической трусости?
Похоже, что блудный сын здесь — подобие Иисуса Христа, отрицаю-щего, в конце концов, себя, но: смертью смерть поправ... Не Иисус Христос, а подобие. Ибо мгновение, в которое (по двум Евангелиям) Иисус возопил перед смертью «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?», стало для блудного сына вечностью. Некоей спасительной веч-ностью. Не было ли это величайшей милостью Христа — даровать челове-ку право такого сомнения, зная, что неприкаянность ему сподручней

264Владимир Гандельсман
смирения (того, что есть в двух других Евангелиях: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» и «Свершилось»). Так усомниться, не этого ли и требует другой бог — Аполлон? Не потому ли: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...» И это уже Аполлон отнюдь не ранний.
Поэт нового времени — блудный сын канонической религии (и он же, конечно, Вечный жид, — Цветаева своего брата в Рильке признает не слу-чайно).
В «Гефсиманском саду» происходят странные вещи. «...и как скажу я, что ты есть, отец, / когда нигде не нахожу тебя я?» По некоторой совре-менной привычке мы, конечно, покорены таким заявлением. Но оно ско-рее отважно, чем истинно. Можно ли обратиться к Тому, Кого нет? Или просто к тому, кого нет. Ежедневно мы окружены тенями умерших и ведём с ними беседы. Но разве их нет? Их присутствие — какая разница — физи-ческое или духовное? — зачастую реальнее, чем присутствие живых4. Или мы не в себе? Чем мы заняты, когда разговариваем с ними? Из абсолют-ной реальности призрака отца Гамлета начинается жизнь трагедии, в кото-рой, возможно, меньше достоверности, чем в его сокрушительно отсут-ствующем присутствии.
Даже если мы по-бесовски одержимы разговором с ничем и сотворени-ем мира из ничего и говорим: «Дыр бул щыл», — эта чушь мгновенно обретает cмысл5.
Ничто не может удержаться в несуществовании6. Несуществования нет. Небытия нет. Нет несуществующего Бога.
Если нами произнесено слово, — Он мгновенно есть. И наоборот: если произнесено Слово, есть мы. Может быть, человеческая жизнь есть про-сто ответ на обращение Бога к точке, в которую, условно говоря, Он сию секунду смотрит. Оттого, покачиваясь на волновой теории и задрёмывая на ней, мы иногда пробуждаемся от дискретных вздрогов ясности, — Бог взглянул, не иначе. (И эта теория, как теория большого взрыва, законо-мерное следствие постижения своего существа, а не поведения частиц в реакторе).
Обратиться к тому, чего или кого нет? Это нонсенс. Что же значит: «...и как скажу я, что ты есть, отец, / когда нигде не нахожу тебя я?» Создание своего и Божьего мира из себя. Такова, казалось бы, абсурдная амбиция, в которой пребывает сознающий эту абсурдность, воспитанный в христиан-ской культуре, но обращённый к Аполлону поэт и в которой зарождается драматизм его поэзии. (Вспомним Гершензона в статье о Пушкине: «...он просто древнее единобожия и всякой положительной религии, он как бы сверстник охотникам Месопотамии или пастухам Ирана».)
Высверливание смысла и здесь подтверждено корневым сверлением слова: «Он поднимался из последних сил, / седей маслин, седеющих на скло-не, / — и лоб, покрытый пылью, погрузил / в горячие и пыльные ладони».
Вот — собор. «Кафедральный собор». Казалось бы, достаточно его мощь воссоздать, сказав: «...в тех старых городках мы вдруг поймём, /

265эссе
насколько всё, что льнёт со всех сторон, / переросли соборы...» (Это пере-растание всего, и себя в том числе, встречается постоянно: «И дерево себя перерастало...», «...земле мала / околица, она переросла / себя и стала больше небосвода...», в «Детстве» — «...там самый малый миг очеловечен и переполнен сущностью своей» и т. д.) Но нет, следует мгновенное удвоение-отражение: «...их подъём / безмерен так же, как безмерен взгляд, / что погружён в себя самозабвенно...» Едва мы измерили высоту собора и оценили его мощь и стать, как выяснилось, что ему этого мало и что он не намерен уступать глубине и безмерности нашего взгляда, в кото-рый и обрушивается всей статью и мощью.
Культурно-историческая память, впитанная стенами собора, и духов-ная память человека, его сосредоточенность и способность созерцания, не только взаимно сопоставлены в своем величии, но и образуют некую бес-конечность, когда невозможно сказать, что первее.
Такое ощущение, что на наших глазах то и дело пытаются создать веч-ный духовный двигатель. Иногда тем не менее кажется, что душа не сооб-щается с вечностью, что она в замкнутом пространстве и, словно бы отра-жаясь от стен земной обители, умножается в самой себе. И хотя изобрета-тельность и сложность выживания этой самодвижущейся «системы» нас удивляет, всё же не покидает и чувство опасности: вечный двигатель вот-вот заглохнет.
Замкнутое пространство и одержимость им. Замкнутое пространство, пытающееся выкрутиться из себя, как выкручивается из себя лента лентой Мёбиуса, а значит — пространство, перебирающее в себе каждый атом.
Следом за пространством собора — пространство морга. Живое тело собора, из которого может, по крайней мере, возноситься молитва, — и мёртвое тело, которое должно решать задачу замкнутости своими «сила-ми». Выдержит ли стихотворение испытание безнадёжностью? Возможно, Рильке полагает, что чем безнадёжнее, тем большие ресурсы должно обна-ружить исследование. Поэтому у покойника «глаза под веками переверну-лись / и всматриваются теперь в себя» («Морг»). Смерть всматривается в мерть. Слепота — в слепоту. Возможно, дело в выявлении новых и новых ресурсов, в их неисчерпаемости, в том, наконец, чтобы исследова-ние никогда не завершилось и не выдало своего знания: завершаться не чему.
Одиночество узника всматривается в одиночество узника («Узник»).(Так слова всматриваются друг в друга глазами созвучий и вслушивают-
ся ушами смыслов; так в Библии мы находим, например: «Я слышал о тебе слухом уха...», и множество подобных тавтологических усилений). Здесь тоже сцена разыгрывается предельным образом. Из человека, совершенно по-беккетовски, вычитается всё: настоящее, прошлое и буду-щее, — в разности остаётся пульсация тела, за которым в глазок злобно наблюдает тюремщик-Господь. Неудивительно, что остаётся представить невообразимое: «...теперь представь, что ты — ещё живой».

266Владимир Гандельсман
(Библейский Иов, проклиная день своего рождения и помышляя о небытии, говорит: «Там узники вместе наслаждаются покоем, и не слышат криков приставника». И дальше восклицает, подобно тому как мог бы воскликнуть рильковский узник: «На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком?»)
Пантера кружит по клетке до тех пор, пока безысходность не вспыхива-ет озарением: «Упругих лап покорные движенья / в сужающийся круг вле-кут её, / как танец силы в медленном сближенье / с огромной волей, впав-шей в забытьё» («Пантера»). Вот ради «огромной воли, впавшей в забытьё» и стоило кружить. Эти слова как будто направляют луч туда, где они не могут воплотиться словами, заговорив на языке логики или прорицаний, в точку «реального, которая заводит язык в тупик»7. Сужающийся круг, спи-раль, скручивающаяся в точку, указывает со всей страстью путь к свободе, путь, по которому двигаться невозможно, потому что «сила» и «воля» изне-могли в себе, забылись и уравновесились собой же с противоположным знаком: отсутствием силы и воли, «забытьём». Инерция животного инстинкта — жить во что бы то ни стало! — сколь бы сильна ни была, не может заговорить. Пантера во вторую сигнальную систему не впрыгнет, и мы, физически чувствуя эту безысходность, переносим её на человека, поэта или себя, читателя, в котором наша собственная безысходность кру-жения внутри себя вспыхивает и гаснет, не успев осветить новую реаль-ность. На новое не хватило дления, которое, возможно, обернулось бы смертью. Дления, похожего на медитацию, из которой не выбраться.
То же кружение в «Карусели», чьи седоки обречены гнаться друг за дру-гом и никогда друг друга не догнать, и в «Испанской танцовщице», исту-плённо ввинчивающейся в собственный танец. Заметим, что слепота кру-жения пантеры — «лишь изредка она приоткрывает / завесы век — и в темноту нутра / увиденное тотчас проникает, / и в сердце гаснет, как искра», — слепота животного вдруг обретает хрупкость духовного прозре-ния в человеке («Слепнущая»): «Она шла медленно, как по слогам, / как будто опасаясь оступиться, / и так, как будто за преградой, там, / она вздохнёт и полетит, как птица». В человеке — и это существенно для Рильке — физическая слепота и духовидение единокровны. Как в тради-ционных образах Гомера или Эдипа.
Стихи «Орфей. Эвридика. Гермес» и «Алкестида» подобны двум сооб-щающимся сосудам. Удивительна изобретательность, с которой испыты-ваются наполняющие их пространство и время, и еще более удивительно не то, как выстроена, но как выстрадана эта игра.
В первом случае происходит движение из смерти в жизнь. Из царства Аида вслед за Орфеем идут бог-вестник за руку с Эвридикой.
Во втором — движение из жизни в смерть: из царства жизни (во время свадебного пира) бог-вестник уводит в смерть Алкестиду, за ними остаёт-ся её возлюбленный Адмет, за которым, собственно, бог приходил, но которого, струсившего, подменила Алкестида.

267эссе
Ещё в области смерти Орфей оборачивается — и Эвридика кротко и молча удаляется обратно.
Ещё в области жизни оборачивается Алкестида — и Адмет, — «...лицо закрыл он, чтобы после этой / улыбки больше ничего не видеть».
В обоих случаях взгляд, в первом — Орфея, во втором — Алкестиды, возвращает действие к исходной точке, соответственно — к смерти и к жизни.
Так замыкается каждое из двух пространств, но в некоторой мыслимой точке соединения жизни и смерти (не такой уж и мыслимой), на стыке двух стихотворений, эти пространства перекручиваются всё той же лентой Мёбиуса, образуя математический знак бесконечности.
То же происходит и со временем.В «Орфее» действие разворачивается вне времени, и лишь в момент,
когда Орфей оборачивается, часы начинают тикать. Испытание в области смерти закончилось.
В «Алкестиде» — наоборот — всё длится во времени до прощального взгляда героини. Поворот — и часы останавливаются. Испытание в обла-сти жизни завершено.
Эвридика — «как будущая мать, ушла в себя». Она полна до краёв смер-тью, её «беременность» вот-вот разрешится смертью окончательной, едва провалится попытка Орфея. Она сновиденчески цельна и исчезает, как сон при пробуждении. Её незаинтересованность и кротость, её, по сути, целенаправленное отсутствие — синонимы благородства, глубокого неве-домого смысла и новизны. («И инобытие / её переполняло. / Как плод и сладостью и темнотой, / она была полна огромной смертью, / столь непо-нятной новизной своей».)
Адмет, когда не вымолил у бога отсрочки, «закричал, не сдерживая крика, / как мать кричала при его рожденье». Крик рождения знаменует собой начало истерики жизни, трусливого метания, готовности на любую низость, ничтожество и бессмыслицу, — и всё это старо как мир и сопро-вождается страстным желанием вымолить хотя бы мгновение, — желани-ем, столь же огромным в своём унижении, сколь унизительна цена, кото-рую оно согласно уплатить: откупиться родителями, другом, женой. Вся сцена напоминает сон, с той разницей, что в том, первом сне времени нет и он тихий и страшный, а здесь — время идёт, и это настоящий кошмар. Античность, дважды приснившаяся христианству. (Но — и не дважды, и не трижды, она — никогда не прекращающийся его сон8.)
Рильке «изматывает» доступные смыслы до такой степени, что они обре-тают почти недоступную многозначность, в языческом пределе стремящую-ся к единому и непостижимому Богу. Отсюда не только построение вещи в целом, но и попутные попытки удвоений, взаимных отражений и т. д.
«...пруд, огромный, серый и слепой, / висел над собственным далёким дном...» — Бродский увидел это как плоскостную картинку на школьной доске — мне видится как раз пространственный пейзаж, который никак

268Владимир Гандельсман
визуально не может завершиться и потому головокружительно и неотвяз-но преследует читателя. Пруд — есть нечто небольшое и строго очерчен-ное берегом. Но если есть берег, то в аксонометрии мы не увидим дна, если же берега нет, то в воображении повисает одна нескончаемая пло-скость над другой, и они не могут воплотиться в образе пруда. Речь дости-гает недостижимости.
Затем — раздвоение чувств у Орфея. Взгляд его забегает вперёд (скоро ли конец пути?) и возвращается, а слух — отбегает назад (идут ли за ним Эвридика с богом-вестником?) и вновь его настигает.
И, наконец, искусство Орфея, которое, возникнув из страдания и плача по любимой, создало мир заново: «Из-за неё, любимой, убиваясь, / всех плакальщиц перерыдала лира, / и сотворился целый мир из плача, где / всё повторилось снова: и леса, / и долы, и дороги, и селенья, / поля и реки, птицы и зверьё; / над плачем-миром, как вокруг другой / земли, ходило солнце, небо, звёзды...» — происходит не только перерастание себя, но сотворение мира из плача, его удвоение. В этом есть сила оконча-тельного бессилия и отчаяния, и это уже совершенно не те слёзы счастли-вого преизбытка, которые были пролиты в начале книги «Новые стихот-ворения».
В «Алкестиде» стоит обратить внимание на заключительный монолог героини. Она говорит существеннейшие для Рильке слова: о полноте смерти. О совершенном её смысле. О той же смерти, которой до краев полна Эвридика. В чём смысл? — в том, что она, Алкестида в своей смер-ти, уходя, забирает всё. Что — всё? Всю жизнь, без остатка. Она говорит: «...Я прощаюсь. / Прощанье сверх прощанья». То есть её расставание с Адметом (и миром) сверх его расставания с ней. Она забирает всё, вклю-чая его прощанье и унося с собой и его горе (не только счастье). И потом она уходит с вестником в смерть: «И вдруг / он снова увидал лицо люби-мой, / когда она с улыбкой обернулась, / светла, как вера или обещанье / вернуться взрослой из глубокой смерти / к нему, живущему...» Концовка (из другого перевода): «...Он стоял, / глаза прикрыв руками, на коленях, / чтоб с той улыбкой быть наедине».
Рильке пытается наделить смерть смыслом сосредоточенной и безвоз-вратной глубины, которым не обладает жизнь.
Единственный вопрос: как может быть смерть больше жизни, если она лишь мысль последней? Может ли мысль помыслить что-то, превышаю-щее её самоё?9
Об этом великая поэзия. Поэзия как религия.В завершение первой части «Новых стихотворений» Рильке подносит
нам «Чашу роз». Образ избыточности здесь достигает предела, и в одном из русских переводов звучит с косноязычием почти обессмысливающе-пародийным, но именно поэтому и выражающим тот совершенный тупик, одновременно смысловой и лексический, в который поэт сам себя загнал, чтобы слово или совершило прыжок в невыразимое, или исчезло.

269эссе
«...Взгляни на чашу роз — на воплощенье / предельности бытийства и упадка, / отдачи без возможности отдаться, / отдельности, что хочет стать твоей: / предельностью тебя же самого. <...> И разве не одних себя они / в себя вмещают, если в них самих / и этот вешний мир, и дождь, и ветер <...>, вплоть до неясного влиянья звёзд, — / как в пригоршне, всё в них съединено. / — В раскрывшихся неосторожно розах».
Эта замечательная «предельность бытийства и упадка» выталкивает нас во вторую часть «Новых стихотворений», где Рильке со страстной сосре-доточенностью исчерпывает возможности замкнутого пространства вещи, взывающей к нему всей своей глубиной и темнотой10.
И в ответ на зов предмета («чтобы расти ему в ответ») происходит пере-рождение созерцателя — тема, которая набирает силу во второй части.
Вторая часть зеркальна не только по отношению к первой (это видно хотя бы из названий стихов: «Ранний Аполлон» — «Архаический торс Аполлона», «Будда» — «Будда во славе», «Лебедь» — «Леда», «Окно-роза» — «Сокровенное роз», «Слепнущая» — «Слепой» и т.д. и т.п.) — её зеркальность и во взаимном вглядывании творца и вещи друг в друга в пределах одного стихотворения.
В «Архаическом торсе Аполлона» автор всматривается в произведение искусства: в изваянного бога, точнее — в то, что от него осталось: в его торс. Мощь произведения такова, что каждой своей точкой оно встречно вглядывается в поэта.
Притом — всем существом. В каждой точке торса — весь Аполлон, как в семени — всё растение11. Сосредоточенная страсть скульптора распростра-нилась на каждую крупицу скульптуры, потому в крупице этой — цельное существование бога, она пересоздаёт себя в цельности.
«Сумей себя пересоздать и ты», зритель, поэт, по образу и подобию бога и его скульптурного воплощения. А пересоздать себя — значит умереть и вновь родиться.
И тут же, в соседнем стихотворении, в «Леде» — обратный и порази-тельный ход: пересоздание богом себя по образу и подобию живой твари и словно бы урок перерождения тому созерцателю-поэту из «Архаического торса Аполлона». Поразительна уже первая строка: «Бог испугался красо-ты своей, когда в обличье лебедя явился». (Мы мимоходом вспоминаем блоковское «Красота страшна...», или того же Рильке «Каждый ангел ужа-сен...») Почему — испугался? Не только потому, что красота ослепительна, но и потому, что она бренна (Адриатические волны, о, бренность...), и — главное — ты должен с ней расстаться по собственной воле. Правильнее сказать: совершив бессознательный и героический шаг любви к красоте вещного мира, чтобы в нем исчезнуть, и значит — утратить и себя, и его красоту.
Если говорить не в античной, а в библейской терминологии, дьявол — это, вероятно, нечто, не справившееся со своей красотой, оставшееся навсегда при ней, нечто, ею соблазнённое и соблазняющее.

270Владимир Гандельсман
В нашем случае (уместное слово) бог устремляется в обличье лебедя к Леде прежде чем успевает осознать себя преображённым, но — как раз — навстречу преображению окончательному и совершенному, из которого нет возврата к красоте и ее эксплуатации. Героический акт любви-исчезновения совершён. «...И к ней приник, / накрыл её, и в сладостное лоно / своей возлюбленной излился бог. / И испустил самозабвенный крик, / и явь перерожденья превозмог». В оксюморонном самозабвенье ума (или разума) — художническая правда, преподанная поэту высшими сила-ми, или — помня Уайльда — преподанная поэтом высшим силам.
Всё та же зеркальность. Рильковский дельфин («Дельфины»), проши-вающий стежками морскую гладь, одновременно и собственное отраже-ние в виде орнамента, «плывущего» по окружности вазы. Жизнь заныри-вает в искусство и обретает в нём форму.
Идея взывающего к тебе невидимого («...невидимое составляет высший разряд реальности», из письма Рильке) более изощрённо, чем в «Архаическом торсе Аполлона», озвучена в «Острове сирен». (А до этого: «Гладкий встречный ветер лёгких ланей, — / ты её лепил...» — сказано о богине в прекрасно сработанных по звуку строках «Критской Артемиды»; перевод К. Богатырёва.) Ещё одна категория невидимого: ветер. Он неви-димый ваятель — и Артемида, преображённая, спускается в долину). В «Острове сирен» речь идёт уже не о «невидимом» вещи, но о «невиди-мом» тишины, то есть о невидимом невидимого (и даже неслышимого!). Волшебное пение сирен беззвучно льнёт к матросам (Одиссей, зная от Цирцеи об опасности этого пения, приказал заткнуть им уши), и вот как определяет Рильке эту тишину: «...весь простор заполнившая тишь, / словно тишина — изнанка пенья, / пред которым ты не устоишь».
Лучше бы сказать не определяет, а исследует. И исследование для него равносильно одухотворению. Рильке — естествоиспытатель мысли, и поскольку познание невидимого неизбежно выходит за свои пределы, то есть — за пределы познанного, постольку оно в поэтическом воплощении грозит превратится в одно нескончаемое стихотворение. Поэтому Рильке так скрупулёзно ограничивает себя в «Новых стихотворениях» сюжетом: античным, библейским или повседневным, — в пределах одной вещи, каждая из которых имеет своё название.
Эстетика возможна, если вещь помилована автором в её борьбе за своё право на самостояние и непознанность, на возможность быть лишь чув-ственно облюбованной и присвоенной, на «вещь в себе» (эстетика атеи-стична), тогда как этика религиозна, перемещая её в познание и растворяя в потоке этого познания, снимая грани и различия, утверждая тем самым единую сущность всех вещей, иными словами — обожествляя, но и пере-водя в разряд «невидимого».
Книга как единый этический порыв, всё же дискретно замыкающий себя в каждом стихотворении на эстетику конструкции как форму обще-ния.

271эссе
Но и внутри каждого стихотворения направление порыва очевидно.«Смерть возлюбленной», зеркально перекликаясь с темой Орфея–
Эвридики из первой части, обживает пространство смерти. Герой спуска-ется за возлюбленной (а лучше сказать: поднимается к ней) не с тем, чтобы её вывести оттуда, — направление их движения противоположно орфеевскому: дальше в смерть. Его любовь одаряет подругу благостью и покоем в загробном мире и понуждает его не просто породниться с мёрт-выми, но ощупью прокладывать «путь, где идти любимой предстояло». Орфей, которому не удалась первая попытка, совершает попытку № 2 в лице безымянного героя «Смерти возлюбленной».
Изобретательность мыслительного аппарата отнюдь не сухая умствен-ность. Она выстрадана. У нас не возникает сомнений, что путь, который прокладывает стихотворение герою, — истинный.
Создание стихотворения подобно сотворению самого сознания, кото-рое есть возможность мышления. Начинаясь как безмысленная (не бес-смысленная!) констатация или эмоция, раскидываясь сетью ритма (музы-кой или тем самым «свободным избытком Бога», «в слепом натиске», по словам Рильке), сознание порождает самосознание, то есть мышление, — как это происходит? — это происходит не как, а потому что. Потому что если возможность не станет реальностью, то нет и мира. И если ритм не скажется, нет поэзии. Бог создаёт человека, чтобы человек поведал о Боге. Иначе Его нет.
Музыка, предшествующая стиху и постепенно обретающая словесное воплощение, являясь прообразом сознания, таит в себе самые непредви-денные мыслительные ходы12.
Поэт знает, что его творение живородяще, и он позволяет ему свер-шиться в том направлении, в котором оно задышало и которое самому поэту скорее всего неведомо. Его дело — отвести вышедшую из берегов реку в столь глубокое русло мышления, сколь — как ему подсказывает интуиция — плодотворен толчок ответвившегося ритма13.
Потому область невидимого, куда мы устремлены невероятным собы-тием жизни, в которой главное «невероятие» — смерть, предполагает исследовательское напряжение всего нашего существа.
Смерть — главное «невероятие» для познания, но при этом она непре-рекаема для знания. Она есть без всяких «вероятий-невероятий» в мире — и её нет в понимающем постижении. Пробуждая мышление, она заводит его в тупик и либо бросает там, приговаривая к изощрённому философ-ствованию, либо понуждает к религиозному взрыву и выходу за все мыс-лительные и мыслимые пределы14.
Скажем так: жизнь обладает доступностью, тогда как «смерть — это отвращённая от нас, недоступная для нас сторона жизни» (Рильке, из письма). И вопрос для Рильке в том, чтобы принимать «смерть» без отри-цания, ибо как часть жизни она не может быть чем-то незначительным и негативным.

272Владимир Гандельсман
Познать смерть при жизни, — а именно это и происходит в «Смерти возлюбленной», — одно из вечных притязаний человека. Одушевить неви-димое как единое мне. Разве умершая возлюбленная не часть мира? Если моё мышление не может оторваться от себя как от неё, невидимое есть одушевлённая реальность.
Едва коснувшееся мышления, эмоциональное восприятие мира — это изумление.
Не может быть, что я есть. Не может быть, что я смертен. Не может быть...
(Толстой в пору своей любви к жене записал в дневнике: «Не может быть, чтобы это всё кончилось только жизнью».)
И это чувство изумления отделяет меня от мира. (Ведь дерево ничему не удивляется.) Тогда как спокойное и безэмоциональное мышление гово-рит о том, что я с ним — одно целое.
Поэзия устанавливает единство меня и мира, изживая эмоцию, ни в коем случае не задерживаясь на ней, но лишь используя её для разгона и ввинчивания и вживления своего существа в мировую ткань15.
Известно, что Рильке любил рассматривать надгробия. «Рассмотрел» он и своё надгробие, написав автоэпитафию. «Роза, о совершеннейшее из противоречий (букв. чистое противоречие), / блаженство ничейного сна / под этим множеством век»; пер. Н. Болдырева в книге Ганса Хольтхаузена «Р. М. Рильке».) Болдырев пишет в примечаниях: «...даже столь простое трёхстишие вызывает при переводе массу разночтений. Вот самый «аль-тернативный»: «Роза, о своеволие, радость / под столькими веками всё же / не быть чьим-то сном».
Перевод В. Бакусева: «Роза, о чистое противоречие, наслаждение быть ничьим сном под столь многими веками».
(Тот же Болдырев пишет: «...“веки” (Lider) несут двойной смысл, озна-чая не только защитный покров человеческого глаза, но и “Lieder” (песни)...» Кстати, перевод неожиданно и простодушно возмещает поте-рю: “под столькими веками” можно читать и с ударением на втором слоге, расширяя смысл высказывания не в сторону, указанную Рильке, но всё же.)
В этом образе есть нечто необъяснимое: чистое противоречие розы в том, что у неё столько век и — прикрытая этими веками-лепестками — она тем не менее не воплощает чей-то (включая свой собственный) сон. Сон, снящийся никому, — как образ смерти.
Духовно мыслимая, невидимая сущность розы (как это должно быть и с любой вещью, данной в смертности пространства и времени) обретает абсолютную реальность, и именно потому абсолютную и реальность, что несуществование (сон, снящийся никому) невозможно увидеть по-разному и тем придать ему относительность содержания (а невозмож-но увидеть его по-разному потому, что невозможно увидеть вообще). А между тем всё это есть.

273эссе
Как легко и как трудно здесь блуждать (и блудить), скажет ироничный эстет. И заблудиться даже не в трёх соснах, но в лепете лепестков одной розы. И это не только великая бесконечность сознания, скажет он, но и дурная.
(«...Через многие годы Себастьян напишет, что созерцание звёзд вызы-вает у него тошноту и брезгливость, как бывает, когда видишь вспоротое брюхо животного». В. Набоков, «Подлинная жизнь Себастьяна Найта».)
Разве не возникает желание одним махом выскочить из розо-говорения и повторить стих Ангелуса Силезиуса: «Роза не спрашивает “почему”, она цветёт, потому что она цветёт»?
Замечательно, но размышлению не прикажешь. Возможно, речь в эпита-фии идёт об окончательной красоте и радости освобождения от красоты и радости. (В каком-то смысле это «бабочка Чжуан-цзы», но наоборот: не бесконечность пресуществления, но бесконечность развоплощения). В этом и состоит чистое противоречие. Чище и противоречивей не придумаешь.
Попросту говоря: как представить себе, что поэт, видевший красоту в стихосложении и положивший на создание этой красоты жизнь, возраду-ется безличной свободе ничего этого не знать, более того — не знать и этой свободы?
Есть ли этому объяснение? «Наслаждение быть ничьим сном». По-моему, всё ясно. В этой строке
наслаждение умножается в духовном событии от слова к слову. Наслаждение Быть. Наслаждение Быть Ничьим. Наслаждение Быть Ничьим Сном.
Такой Сон предполагает совершенно творческое мышление, свободное от чувственно-телесного, прижизненного, загроможденного надеждами и разочарованиями наслаждения16. Добавлю: всё ясно, но объяснения этому нет.
Может быть, заглядывание в недоступность всякий раз изобличает порог допустимого как порок: душа скучает на данности, не верует? Ведь истинная вера не любопытствует, не заглядывает за, но принимает види-мое как тайну и ритуал, не подвергая его испытанию собой и себя — им. Может быть, тайное понимание этого влечёт поэта к обезличенной свобо-де как к искуплению и отказу от словоговорливого порока, от истерики самопознания? Может быть. Вот только истерики нет: эпитафия глубока и спокойна17.
Слово не может стать вещью, например розой. Но оно может стать постижением розы, её сущностью. Роза — это не только лепестки, стебель, цвет или запах конкретного цветка, она не есть что-то уничтожимое до тех пор, пока живет моё сознание, и стихи являются даже не средством выра-жения этого неуничтожимого, но самим способом его существования, духовной жизнью, когда я и предмет постижения соединяются в духе. Тогда, оказываясь в пространстве однородного просветления, где любая сущность божественна, мы, дойдя до глубины постижения, можем потерять различ-ающие смыслы. В этот момент «учёного не-знания» (Н. Кузанский), сти-

274Владимир Гандельсман
хотворение может впасть в некое беспамятство, в священный лепет и бор-мотание, подобно волне, закипающей на гребне, что и происходит у неко-торых великих, и — никогда у логиков, имитирующих ах-радость ах-бытия. Эти «закипания» не прихоть поэта, но естественное продолже-ние познания, когда разум как бы «теряет сознание», это молитва и меди-тация. Но едва ли стоит прибегать к метафорам и называть молитвой или медитацией то, что называется поэзией. А поэзия состоит из слов, кото-рые тяготеют к смыслу. Так же, как глубокая медитация опасна для жизни, так поэзии опасен лепет, даже если он священный. Опасен окончатель-ным развоплощением, утратой предметности, полным растворением в духе. Это устремление просматривается в «Дуинских элегиях», когда, похоже, грань перейдена и хрупкое равновесие между «учёным знанием» и «учёным не-знанием» нарушено в пользу последнего. (Путь от «Новых стихотворений» к «Дуинским элегиям» — это путь от Аполлона к Дионису.) Но есть стихи, где любишь словно бы не сами стихи, но автора, его духовное усилие18.
В «Сонетах к Орфею» и «Дуинских элегиях» цикличность, свойствен-ная «Новым стихотворениям», размыкается. Речь не о форме, — строгая форма сонета, точно так же, как вольная форма элегий, оказывается не в состоянии «удержать» стихи в поле земного притяжения к вещам. Рильке совершает свой путь, и дело не в том, что он слишком опережает читате-ля, а тот безнадёжно отстаёт (если придать поэту роль «водителя», «вест-ника» божественного, как это делает Хайдеггер), а в том, что он совершает слишком свой путь, где попутчиком может оказаться лишь тот, кто проде-лал свой, совершенно, быть может, отличный от пути Рильке, но соизме-римый по сосредоточенной страсти аскетизма.
Он прикован к постижению и приятию смерти: «Сонеты к Орфею» написаны как надгробие для девушки, а в первой же Дуинской элегии сказано: «...мы поневоле / ищем тайн, ибо скорбь в сочетании с ними / помогает расти. Как тут быть нам без мёртвых?» — без постижения и при-ятия смерти свидетельствовать о целостности бытия нельзя. Нельзя «вос-певать».
Поэзии, которую Хайдеггер понимал как богоискательство — и, веро-ятно, был прав, поскольку видел перед собой «Дуинские элегии», в кото-рых песня несётся над землёй, почти погибая в беспредметности — («Не так ли я, сосуд скудельный, / дерзаю на запретный путь, / стихии чуждой, запредельной, / стремясь хоть каплю зачерпнуть?»), — противостоит поэ-зия как свидетельство и воплощение Бога.
Кто из смертных смеет сказать, что Бог умер? Как же он, человек, тогда живёт? Заниматься богоискательством? Но если мы ищем Бога, значит мы знаем, что он есть. Если же он есть, не надо искать, ибо как мы найдём непостижимое? Только — принять. А принять — означает воспеть. И вот тут возникает вопрос: как воспеть непостижимое? — и с ним — порочный круг, и — как следствие — головокружение богоискательства с поташни-

275эссе
ванием. Выход есть, и он единственный. В этой точке либо происходит мгновенное пресуществление содержания в форму, либо — смерть. (Смерть в идеях, «идеи — дети бесплодных матерей», и блужданиям их нет конца. Бесконечная смерть.)
Вместо неуловимых, не могущих ни во что воплотиться, находящихся в непрерывном перевоплощении друг в друга Чжоу и бабочки, — абсолютно неоспоримое сияние данности:
О бабочка, о мусульманка,в разрезанном саване вся –жизняночка и умиранка,такая большая, сия!..
Домашняя данность. Домашняя, но и сиятельная. Разгадка в том, что лишь невероятность формы устанавливает бесконечность содержания в конечном: в образе. Образ — это скачок, в котором перегорает вольфра-мовая нить времени, и значит — это вспышка света. Содержание должно быть приостановлено в творении. В ином случае оно никогда не станет. Оно будет прибывать не пребывая, в высокомерии бесконечности. Это смыкается с идеями Хайдеггера: бытие-праоснова выбрасывает из себя существование, которое, в обратном натяжении, к центру бытия, устанав-ливается в форме. В направлении, встречном бытийствованию.
Энергия художника должна быть (если здесь возможно долженствова-ние) направлена на чудесность образа, а не на самоупоённое богоиска-тельство19. Домашняя данность и узнаваемость вещи (у Мандельштама — бабочки), но — в озарении ясности и безумия, или в «безумной ясности»20.
P. S.
«Пересмотрел всё это строго: / противоречий слишком много, / но их исправить не хочу...» Если полагание на себя и свои силы, богооставлен-ность поэта казались мне поначалу тупиком, из которого не выйти, то затем они же обернулись гарантией выхода как непрерывного становле-ния, роста и перерастания себя. Возможно, эта противоречивость даже полнее отражает путь Рильке и, возможно, так им и заповедано.
2005 г.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Из Рильке («Маргиналии к Ницше»): «...Музыка (ритм) — это свобод-ный избыток Бога, ещё не исчерпавший себя в явлениях, и, пользуясь им, художники в слепом натиске пробуют задним числом восполнить мир в том смысле, в каком действовала, продолжая созидать, эта мощь, и творят картины тех миров, что только ещё могли бы быть сотворены ею».

276Владимир Гандельсман
2 Переводы взяты в основном из трёхтомника Рильке (Харьков: Фолио; Москва: АСТ, 1999), «Избранного» (М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1998), «Новых стихотворений» (М.: Наука, 1977) и «Сонетов к Орфею» (СПб.: Urbi, 2000); если в немецком нет отмеченного повторения однокоренных слов, то это происходит в других стихах; мне важно указание на принцип избыточности, присущий поэзии Рильке в целом («Настоящая поэзия начинается за пределами поэзии. То же самое с философией, да и со всем на свете», — примерно так); то же будет и в других случаях: общий прин-цип, а не буквальное соответствие оригиналу.
3 Хайдеггер говорил, что вся его философия — комментарий к поэзии Рильке, особенно к «Дуинским элегиям». О том же соотношении филосо-фии и поэзии — в книге К. Свасьяна о Гёте, где приводятся слова Фихте: «К Вам, — пишет он Гёте, — обращается философия. Это значит: если Вам нет места в ней, то да будет ей место в Вас».
4 Одна из иллюстраций на эту тему: вернувшийся Одиссей не признаётся отцу в том, что это он, пока не растравляет в нём воспоминаний о погиб-шем, как полагает Лаэрт, сыне. Быть может, эта бессмысленная жесто-кость символизирует подлинное возвращение Одиссея, делает его событи-ем духовным: пережив смерть сына, Лаэрт чувствует всю внезапно завер-шившуюся и таким образом извлечённую из медленных и ослабших надежд интенсивность его жизни, жизни, как бы собранной в один кулак, заново.
5 Пусть это всего лишь провокационный смысл создания письма, свобод-ного от так называемой инцестуальной связи с текстом-смыслом-традицией, от связи с текстом-надсмотрщиком, обязующим читателя к привычным ассоциациям и усыпляющим его; ничто не удержит внимания читателя, если он хочет спать, а «дыр бул щыл» тем более.
6 Стоило бы парадокса ради сказать: ничто не может удержаться в новизне несуществования; как заметил философ, мы всегда в ситуации, когда что-то уже совершилось: связи установлены, и к шарфу тянется рука, а не нога.
7 В книге Алана Бадью «Апостол Павел» речь идёт о благовествовании: «Благовествование должно осуществляться без “превосходства слова или мудрости”, чтобы “не упразднить креста Христова”. Что значит, в данном случае, упразднить событие, знак которого крест? Это значит, событие просто-напросто имеет такую природу, что философский логос не в состо-янии его провозгласить. Подразумеваемый тезис заключается в том, что один из феноменов, по которому событие узнаётся, подобен точке реаль-ного, которая заводит язык в тупик. Изобретение нового дискурса и субъ-ективности, которая не является ни философской (греческий дискурс), ни пророческой (иудейский, требующий знамений божественной силы), но

277эссе
апостольской, предписывает, что лишь ценою этого изобретения событие обретается и существует в языке. Для утвердившихся языков этот дискурс неприемлем, поскольку в них он невыразим».
8 Античность снилась предшественнику Рильке (и тоже герою Хай-деггера) — Гёльдерлину: «Эта Греция мила мне повсюду. Она носит цвета моего сердца. Куда ни взглянешь, везде могила радости». В другом месте: «...и в полудрёме отдался качанию лодки, воображая, будто лежу в челне Харона. Пить из чаши забвения так сладостно...» («Гиперион»). (Гёль-дерлин никогда не был в Греции. Но только так и можно вернуть умерших богов.) Не это ли столкновение: христианства и античности, — привело поэта к безумию? Возможна ли одновременная вера в Христа и в Диониса, как, скажем, у В. Иванова? Вероятно. Если избежать крайностей чув-ственного восприятия и христианской аскезы. (Вечные поэтические угры-зения совести, подобно пушкинским слезам в «Воспо минании», — разве не из того же «кастальско-иорданского» источника?) Но едва ли можно говорить о какой-то половинчатости восприятий в случае Гёльдерлина, или Ницше, или Рильке. Об опасности поэтического поприща Хайдеггер пишет в статье «Гёльдерлин и сущность поэзии»: «Чрезмерный свет толка-ет поэта в темноту. Требуются ли ещё доказательства высшей опасности его “занятия”? Всё уже сказано собственной судьбой поэта. Как пророче-ство звучат тут слова из гёльдерлиновского Эмпедокла: “...Тот, через кого говорил дух, должен вовремя уйти”».
9 Фет обращается к смерти («Смерти», 1884): «...Пусть головы моей рука твоя коснётся / и ты сотрёшь меня со списка бытия, / но пред моим судом, покуда сердце бьётся, / мы силы равные, и торжествую я. / Ещё ты каж-дый миг моей покорна воле, / ты тень у ног моих, безличный призрак ты; / покуда я дышу — ты мысль моя, не боле, / игрушка шаткая тоскую-щей мечты».
10 Мир вещи, глубокий и тёмный, — отражение внутреннего мира челове-ка; А. Мацейна о Рильке (и о Хайдеггере): «...внутренний дух, на котором держится поэзия Р. и философия Х., один и тот же. Один и тот же мир, бесконечно чужой и далёкий; один и тот же человек, заброшенный в сегодняшнее существование и в нём запертый без просвета в иное суще-ствование — по ту сторону; одна и та же жизнь, постоянно движущаяся к смерти как к совершенному концу...»
11 Вновь вспоминается Фет; в стихотворении «Добро и зло»:
И как в росинке чуть заметнойвесь солнца лик ты узнаёшь,так слитно в глубине заветнойвсё мирозданье ты найдёшь.

278Владимир Гандельсман
12 Мандельштам в «Silentium» ратует не за молчание, но за таимую в нём «всего живого ненарушаемую связь»:
Она ещё не родилась, она — и музыка, и слово, и потому всего живого ненарушаемая связь. ............................................ Останься пеной, Афродита, и, слово, в музыку вернись, и, сердце, сердца устыдись, с первоосновой жизни слито!
Прозвучавшее слово не должно ни на мгновение забыть, какая возмож-ность ему была предоставлена предшествующей музыкой, так же как музыка должна помнить поручения тишины. А иначе — «сердце, сердца устыдись».
13 «Гроза, моментальная навек» Б. Пастернака — буквальный пример пейзаж-ного (музыкального) разбега к сознанию. Причём двойного разбега (в две строфы) к двойному озарению рассудка. Стоит взглянуть подробнее на то, как это происходит:
А затем прощалось лето с полустанком. Снявши шапку, сто слепящих фотографий ночью снял на память гром. Меркла кисть сирени. В это время он, нарвав охапку молний, с поля ими трафил озарить управский дом.
И когда по кровле зданья разлилась волна злорадстваи, как уголь по рисунку, грянул ливень всем плетнём, стал мигать обвал сознанья: вот, казалось, озарятся даже те углы рассудка, где теперь светло, как днём!
Решающий момент, когда судьба гениального финала была предрешена и поэт бессознательно позволил стихотворению окончательно свершаться в мышлении, доверившись интуиции, — это, конечно, «грянул ливень всем плетнём». Есть в этом сравнении отчаянная, последняя решимость, энер-гетический предел изображения. (Дело не в мимоходной аллитерации, хотя мы замечаем, как «ливень» и «лето» стали «плетнём».) Конечно, при-меты «человеческого» мелькают в одушевлении грома, между вспышками

279эссе
молний. Это и фотограф, вылезающий из-под чёрной накидки старинно-го фотоаппарата (из-под шапки), это и снятие крышки (шапки) с объек-тива. Это и шапка-невидимка: снимешь с головы — и обнаружишь себя; тут же и мелькнувший парадокс (некогда дотошествовать, сейчас грянет гроза): да, видим, всё осветилось, но фотографии — «слепящие», а значит, ничего не видим. Мгновенная стереоскопическая (эпитет В. Набокова, думавшего, что он уничижительный) передышка — «меркла кисть сире-ни» — что она делала до того, как мерно мокла? — мёрзла? округло и блёк-ло мерцала? — так мы успеваем увидеть звук, — мгновенная передышка и — второй заход. Но после того как «грянул ливень всем плетнём», попытка либо обессмыслится, либо оправдает себя. И рассудок объявля-ется. Замечательно, что он объявляется в плоти самого стихотворения, буквально, и в поэте Пастернаке, пишущем это стихотворение.(Сопоставление с Пастернаком напрашивается само собой. О своей зави-симости от Рильке он писал в конце жизни: «Я всегда думал, что в моих собственных опытах, во всей моей творческой деятельности я всего лишь только переводил и варьировал его мотивы...»)
14 При всей необъяснимости явления «жизни» мы не можем удостоить её чести быть столь же невероятной, потому что она есть условие разговора «о чём-то». Если же разговор о невероятном мы предваряем невероятно-стью предпосылки разговора, то говорить придётся «ни о чем». Впрочем, философы «ни о чём» и говорят. «О, только бы ты говорил!» Залог «непре-кращаемого разговора», иными словами — философии, в том, что всё может быть отрефлексировано как мышление и превращено во внекон-текстуальную мастурбацию.
15 Штейнер в «Философия свободы»: «Мышление есть элемент, посред-ством которого мы соучаствуем в общем свершении Космоса; чувствова-ние — это то, посредством чего мы можем идти на попятную и стягивать-ся в тесноту нашего собственного существа». В «Сонетах к Орфею», в № 3: «Но что напев для нас, коль движет он / над нашим быть светил небесных сферы? / Не то, что мнят в нём юноши, когда / им голос жизни горло рвёт: химеры / земной любви пройдут — и навсегда». По Рильке мир во всей своей новизне возникает из пения Орфея. И его суть — «не то, что мнят в нём юноши...»
16 Поэт, которого Рильке любил и переводил, Поль Валери: «...мир поэзии обнаруживает глубокое сходство с состоянием сна...<...> Сон показывает — когда нам удается восстановить его в памяти, — что наше сознание может быть возбуждено и заполнено, а также утолено совокупностью образова-ний, поразительно отличающихся по своим внутренним закономерностям от обычных порождений восприятия».
17 Этот «коан» я задал поэту Валерию Черешне, который разрешил его так: «Речь идёт о «ничейном сне» бытия, о его великой потенции, сгущённой

280Владимир Гандельсман
сомкнутыми веками-лепестками розы, блаженном, поскольку таит в себе-возможность пробуждения (раскрытия век-лепестков). Сон и пробужде-ние, смерть и жизнь, бутон и цветение — всё в одном образе».
18 Бесконечные трактовки, допустим, стихов Мандельштама — результат безуспешности этих трактовок. Критика пользуется логикой там, где её законы неприменимы. Единственной доблестью её было бы указать на ту область, в которой поэт «заговаривается» и в которой она бессильна.Пауль Целан в письме к Глебу Струве о Мандельштаме: «...впечатление безусловной правды, которая обязана своей смысловой наполненностью и своими контурами именно соседству чего-то предельного и тревожащего: того, что беззвучно и вместе с тем внятно со-глаголет с нею — а возмож-но, даже глаголет что-то сверх и помимо самого стихотворения. <...> ...(он) хотел сделать само слово в стихотворении “вещно-крепким”, — не допустимо ли и мыслимое таким образом слово во многих случаях пони-мать под знаком некоей “предельной” вещности? Но где, скажите мне, в великой поэзии речь не идёт о предельных вещах?»
19 С причислением поэта к лику какой-либо религии, как правило, ничего не получается. То он верующий, но не церковный, то религиозный, но не верующий, то всё вроде на месте, но к исповеди не ходит... Не получается прежде всего у самого поэта, если, конечно, он не осознаёт поэзию как религию. Такое осознание было бы естественно, потому что воистину ничего другого он не исповедует.Не зря Роберт Музиль заметил в «Речи о Рильке»: «Он был, в известном смысле, самым религиозным поэтом после Новалиса, однако я не уверен, была ли у него вообще какая-либо религия». О том же свидетельствует и сам Рильке: «Бог — самое древнее из творений искусства. Он скверно сохранился...» или: «Тот, кто не творит, должен иметь религию...», — Рильке хочет сказать, что творящему она не нужна, она уже есть. (Кафка тоже не видел разницы между молитвой и искусством: «Человек бросает себя в тёмную световую дугу между прехождением и становлением, чтобы уложить бытие в колыбель своего маленького ”я”. Это и делают наука, искусство и молитва».) Не случайно стихи не выдерживают богоискатель-ства, противятся ему, а сдавшись на милость упорствующего поэта, не удаются.
20 Уточнил мои слова и привёл их к формуле, которая, по-моему, безуко-ризненна — «безумная ясность», В. Черешня; уже закончив статью, я нат-кнулся на изречение в интервью Набокова 1969 года: «...Объективно гово-ря, в жизни не встречал более ясного, более одинокого, более гармонич-ного безумства, чем моё».

281эссе
ЖЕЛАНИЕ, МЫСЛЬ И ВРЕМЯ В «МАКБЕТЕ» Из послесловия к переводу
1.Счастливейший из великих поэтов, не попавшийся на удочку собствен-
ной биографии, а потому не засушенный, не завяленный и не обсижен-ный мухами, Шекспир, быть может, лучший из созданных им персонажей. Парадоксальность этого первенства состоит как раз в том, что нет ника-кого особенного характера, нет почти ничего. Это ли не мечта многих и многих набоковых и сэлинджеров современности: выстроить крепость, спрятаться, исчезнуть, создать о себе миф... — что угодно, но не допустить сплетен, посмертного разложения своей жизни, растаскивания и прила-живания её «кусков» к творчеству, попыток необъяснимое сделать объяс-нимым и доступным хищническому обывательскому пониманию? Шекспиру это удалось без всяких видимых усилий.
Счастливейший ещё и потому, что сказал он о себе (а значит — обо всём) больше, чем кто-либо. Для тех, кому недостаточно поэзии Шекспира и кто хочет во что бы то ни стало отыскать Шекспира «реального», некий человек, которого по странному совпадению реального с нереальным звали точно так же, написал автоэпитафию, которую я с удовольствием перевёл:
В мой гроб, во имя Господа, не лезь,дай мне покой, мой друг, не ройся здесь.Блажен, кто этой костью не прельстится,а псам желаю ею подавиться.
2.Когда-то в комментариях к роману Уильяма Фолкнера «Шум и ярость»
(перевод О. П. Сороки) я прочёл цитату из «Макбета», указывающую на происхождение названия романа: «Жизнь — <...> рассказ, рассказанный кретином, полный шума и ярости, но ничего не значащий». Это было очень давно, и, конечно, такие слова должны были произвести неотрази-мое впечатление на молодого человека. Не говоря о самом романе, заме-чательном и любимом поныне. Другим сильным впечатлением был фильм Акиры Куросавы «Трон в крови», снятый по мотивам трагедии. Эти две частности в сочетании с желанием приблизиться к великим английским стихам привели меня к попытке перевести «Макбета».
Также я не взялся бы за перевод, если бы считал, что участие в сорев-новании с предшественниками безнадёжно (знаю переводы А.И. Кро- неберга, С.М Соловьёва, М.Л. Лозинского, Б.Л. Пастернака и Ю.Б. Кор- неева, — есть и другие работы, но я с ними не знаком).

282Владимир Гандельсман
3.Я не собираюсь писать всеобъемлющее сочинение на тему «Макбета».
Подобных сочинений много, и среди них есть превосходные. Но я думаю, было бы правильно высказать то, что мне особенно интересно в этой тра-гедии: несколько соображений, возникших по ходу работы.
«Макбет» — это история заурядного желания (помышления), от змеи-ного его зачаточного просверка в безвременье райского сада — через пре-вращение желания в скоропалительную непродуманную мысль, которой дан ход, то есть через существование её во времени (а мысль и есть время), — до адского воплощения, апокалипсиса, отрубленной головы, где эта мысль зародилась, а значит — до её прекращения и конца времён в одном отдельно взятом человеческом существе.
Зеркальна по отношению к этой истории судьба нашего чтения (зер-кальна — потому что к нам благосклонна): из неведения мы открываем книгу, проживаем сцену за сценой, как будто следуем из залы в залу, и, наконец, выходим из этого мира, прикрыв за собой декоративную дверь обложки.
Макбет и леди Макбет — чем не Адам и Ева? Счастливая пара, райский сад. Явление ведьм — чем не явление змея-искусителя или — по-другому — извилины-желания: а не стать ли мне королём? Желание заурядно, потому что, как известно, в ранце каждого солдата лежит жезл маршала, но оно получает незаурядное развитие, потому что не так уж много солдат, которые убивают этим жезлом своего повелителя. Добавим к французскому афоризму русский и чуть изменим его в угоду пьесе Шекспира: «Плоха та солдатка, которая не мечтает спать с генералом». И это уже леди с её ледяным расчётом, отнюдь не мечтой.
Что делать с промелькнувшей преступной мыслью? В одной из своих притч Франц Кафка пишет о герое: «Уж раз того однажды стали мучить такие мысли, могут ли они когда-нибудь развеяться совсем?» «Макбет», повторяю, это история и исследование природы желания, это история о подмене желания непродуманной мыслью (то есть отсутствием мысли), о том, как безмысленное действие развивается по своим безумно множа-щимся законам и порождает (когда ничего уже сделать нельзя, поскольку стихии бездумного действия был дан ход) вполне незаурядную рефлексию, которую если и не отождествить с раскаянием, то с наказанием, кармой очень легко.
Потому и Куросаве близок этот сюжет, что буддийская идея о разруши-тельной силе непродуманного желания (а продуманного и не бывает, мысль способна разрушить любое желание) была ему родной.
Какое получит продолжение эта мысль и получит ли? Зависит от чело-веческого материала.
Банко её не принимает и страшится, что она пойдёт в обход и пролезет в бессознательное: «Свинцовый сон меня к постели клонит, / но всё ней-дёт, храни его, Господь, / от непотребных мыслей». Его природа не отве-

283эссе
чает на преступный вызов. Отметим лишь тонкое психическое состояние «недопущения» в свой состав того, что шепнуло себя на ухо. Безрезультатно. — И, понятное дело, такой персонаж нам не интересен. Злодея, злодея на сцену!
Пожалуйста. Леди сомнений не знает. Кажется, что она одно из вопло-щений тех самых ведьм, явившихся в начале трагедии. Есть «человече-ские» трактовки, объясняющие её роль вдохновительницы Макбета. Она была замужем, она знает материнство (пристыжая мужа в его нерешитель-ности, леди говорит: «Зная и любовь / и нежность материнства, я сосок / отдёрнула бы от бескостных дёсен / и бросила младенца оземь, / когда бы, как Макбет, дала зарок»). В новом браке у леди нет детей. Быть может, убийство Дункана станет своеобразным посвящением Макбета в мужчи-ну? Мне, признаться, это ничего не объясняет — дьявольщина остаётся дьявольщиной. Леди Макбет совершенно открыта грядущему преступле-нию. Оказывается, что и такой персонаж не очень-то увлекателен. Хотя его страстность и решительность впечатляют.
Макбет находится между Банко и леди. Он заложник и мученик вопро-са: убить иль не убить? Не потому, что сказано: «Не убий!» Герой дохри-стианской эры, он попытается стать «гигантом дохристианской эры» (Пастернак — о Сталине). Так или иначе, но в момент ведьминского пред-вестия: «Почёт и честь тебе, король грядущий!» — Макбет вздрагивает. Время пошло.
«Макбет» — это трагедия неопределённости, когда герой, не способ-ный ни отринуть мысль, ни продумать её до конца и, возможно, таким образом изжить, обречён на ничтожество полумыслей, полурешимости, полузлодейства, — на половинчатость любого своего проявления. Его страх и трепет: удастся ли проскочить? Удастся ли совершить преступле-ние незаметно не только для постороннего глаза (и избежать явного воз-мездия), но и для себя самого, для своей совести (и избежать тайного воз-мездия)? Непродуманность-непрочувствованность-непрожитость этой мысли очевидна, поскольку Макбету кажется: с тайным возмездием, — которого, он знает, не избежать! — с тем, что произойдёт с его психиче-ским составом потом, он справится. Но он не может знать, что будет с ним, ставшим другим человеком. Полноценная проникающая мысль могла бы это предвидеть. Есть и другой страх и трепет. Подначиванье леди направлено в примитивную, но неотразимо-больную точку: смел помыш-лять, но не смеешь совершить? Что за фальшь и что за трусость! Внутренний ответ Макбета: посмею ли? Сам вопрос направлен в сторону преступления, но убийство Дункана выглядит как наваждение. Герой в полубреду, кинжал вложен в безвольные руки. Эта сцена словно бы паро-дирует библейскую: нож непоколебимого в своей вере Авраама отвер-гнут — кинжал расслабленного и ни во что не верящего Макбета «одо-брен». (Конечно, шекспировский случай к Господней воле отношения не имеет.) Изысканная ложь Макбета — в соблазне счесть будущее убийство

284Владимир Гандельсман
роком, судьбой, чем-то, что парализует и отменяет его волю. Правда Макбета — в том, что он понимает свою ложь. Я склонен думать, что Макбет эту сцену разыграл. Перед кем? Перед собой.
Но всё дальнейшее не розыгрыш. Происходит убийство — первый обрыв мысли и времени. Кому они принадлежат, эти мысль и время? Дункану? Не только. Мысль и время Дункана принадлежат миру, кото-рый — и Макбет, и его жена... Наступает ночь. Шекспир уводит со сцены главных героев и вытаскивает на подмостки «слугу просцениума» — при-вратника.
Стук в ворота — метафора пульса вернувшейся жизни. Об этом с романтическим воодушевлением писал Томас Де Квинси: «И вот именно тогда, когда злодейство совершено, когда тьма воцаряется безраздель-но, — мрак рассеивается подобно закатному великолепию в небе; раздает-ся стук в ворота и явственно возвещает о начале обратного движения: человеческое вновь оттесняет дьявольское...»
И дальше, дальше... В чередовании света и тьмы, с ведьмами и призра-ками, с эхом убийства, умноженным новым убийством, с вырастанием Макбета в полнокровного (с ног до головы-кровного) тирана, вобравшего в себя силу жены (они как сообщающиеся сосуды: крепнет Макбет — сла-беет леди, — вот уж где пословица «Муж да жена — одна сатана» обретает буквальное значение).
Имя Макбет значит «сын жизни». И Macbeth очевидно рифмуется с breath и death, то есть с жизнью и смертью. Макбет воистину сын жизни, в очень обыденном смысле: как многие двуногие, он мыслит ползком, по-рабски. Он предельное выражение заурядного человека — не мысля-щего, но помышляющего, а помышление — лютый враг внутренней сво-боды. Поэтому Макбет также и сын смерти. И как сын смерти он несёт смерть.
В осознании того, что время — единственное, что не подвластно ему («в осознании»! — а значит, прежде всего неподвластна тягомотина мысли, порождающей время и все попутные страхи, которые время при-тягивает), Макбет приходит к примечательным открытиям в этой обла-сти. Время не подвластно? Посмотрим! (В некотором зловеще-метафизическом смысле уничтожение людей — попытка убить время, пусть в его частном проявлении, но убить. В конце концов, если убить всех — время кончится, иронически говоря, с максимальной объективно-стью: некому будет мыслить).
Вот первое открытие, сделанное в третьем акте, когда принято беспово-ротное решение идти до конца, а значит — убивать и убивать:
Макбет
Есть мысли, воплощаемые лишьдо осмысленья, иль — не воплотишь.

285эссе
(Macbeth
Strange things I have in head, that will to hand,Which must be acted ere they may be scanned.)
И вот эхо этого открытия в четвёртом акте, когда Макбет узнаёт, что Макдуф бежал в Англию, — одна из многих симфонических перекличек в музыкальном контексте трагедии:
Макбет
Ты, время, юрче всех кровавых дел.Цель ускользает, если не посмелв нее вцепиться, ухватив мгновенье. Отныне мысль — и есть осуществленье,венчающее мыслимый предел.
(Macbeth
The very firstlings of my heart shall beThe firstlings of my hand.)
(В обоих случаях важно не соответствие английскому звучанию (head-hand-heart-hand), но соответствие русского и русского в разных точках пьесы, чтобы текст в сцене четвёртого акта откликнулся эхом на текст из акта третьего.)
Первое открытие устраняет время как размышление, ибо размышление
на тему «убить-не убить» затрудняет и откладывает (в худшем для тирана случае — отменяет) действие. Второе открытие — предельное мечтание тирана — действие (убийство) должно быть одномоментно с помышлени-ем о нём. И вновь: никакого временного промежутка. Любое помышле-ние, тут же пресуществлённое в действие, вернее сказать, любое помыш-ление, равное действию, — вот что возводит злодея на уровень божества.
Подтверждение незаурядности размышлений Макбета о времени — его хрестоматийный монолог в пятом акте, с получением известия о смерти жены:
Ей следовало позже умереть;я время бы нашел для слова «смерть».Но завтра, завтра, завтра... Семенить,пока отмеренная нитьдыхания не оборвётся,шажок-стежок, пока дурак не ткнётсявсем своим прошлым в прах и пыль.

286Владимир Гандельсман
Нет, Макбет не божество, он осознаёт свою смертность. И горечь его последних монологов в сочетании с ядовитой иронией, с шумом и яро-стью, с решимостью не отступать, но принять то, что ему уготовано всласть посмеявшейся над ним судьбой, делает этот образ по-настоящему крупным и достойным сочувствия. Странную роль здесь играют стихи Шекспира — и мне кажется, в этом одна из главных причин великолеп-ной сложности отрицательных персонажей его пьес: невозможно не сочувствовать тому, кто говорит так!
Язык Шекспира всегда на стороне его героев, — воистину героический язык.
В вышеприведённом монологе Макбет не только не божество, он про-сто человек (хотя не простой человек), осознающий своё несовершенство в глубоком философском смысле. Он понимает, что он в ловушке, создан-ной желанием-мыслью-временем, что для него выбег из этой ловушки один — в смерть.
Сгинь, промельк жизни, лживый водевильс позёрством и истерикой игры,факир на час, лети в тартарары,ты бред безумца, вздор, чьё существо –есть шум и ярость, больше ничего.
4.От этого отчаяния — один шаг до прозрения: времени нет. До мудро-
сти, в которой глубина самопостижения снимает эту проблему и в кото-рой остановка времени происходит не потому, что отрубают голову, а потому, что всё до отказа заполнено несомненной (не сомневающейся) жизнью, не только не подверженной смерти, но и не подлежащей умале-нию. Иисус и Иуда — хороший пример разнополярности Знания и зна-ния. Хороший еще и потому, что в «Макбете» есть аллюзия на Евангелие от Иоанна. Иисус, зная о предательском помышлении Иуды, говорит ему: «...что делаешь, делай скорее» — «That thou doest, do quickly». Первая строка монолога Макбета в седьмой сцене первого акта: «If it were done when 'tis done, then 'twere well / It were done quickly» — буквально: «Если бы это было сделано, то лучше уж быстро». Иисус знает то, к чему Макбет еще придёт: сомнение, угрызения совести и пр. в иудином времени могут разрастись, и не свершится то, что должно свершиться... и что уже (и всег-да) свершается в Иисусовом времени (ибо его нет).
Июль–август 2008 г.


стихи-III

289стихи-III
БОЛЕЗНЬ
1
Всё это жар.И абажура шар.Ажурный, ал.Ребёнок хнычет, мал. Рефлектор, блеск.Спирали лёгкий треск.Раскалена,глаза слепит она. В тот миг, когдав него метнёт ордастрел золотыхтоску, чтоб он затих, дай руку, дай.Купи мне раскидай.Китай цветовбумажных и цветов. Ещё волчок.Ещё «идёт бычок...»Волчок кружит.Дитя в ночи лежит. Там довелосьему спастись, но осьтоски, ввинтясь,со смертью держит связь. Напёрсток, нить.Её заговоритьизбыток словя знаю. Радость, кров. И потому,когда шагну к Тому,жизнь сбросив с плеч,забуду речь.

290Владимир Гандельсман
2
В той лампа есть ночи,в той лампаночи горящая.Машинка «Зингер», стрекочив столовой слабо.Тряпьё пропащее. Там и соткётся вдругиз света,из света жёлтого,как бы замедлив скорость, звуктоски, и этотоска животного. Урчанье, шорох, страх,по трубамводопроводнаятоска с захлёбом, впопыхах,как мышь по крупам,мне соприродная. Там в горле я комком,там в горле,в слезливой жалостик себе, свернусь. Пылает дом,и жар растёрли.Из этой малости: любви, и жизни, иболезни, –когда закончатсявсе три, свой свет себе вернии в нём воскресни.Строчи, пророчица. Под лампой руки, блескчелночный,ушко игольное,тряпьё пропащее, и тресктот полуночный,тоска продольная.

291стихи-III
РАЗВОРАЧИВАНИЕ ЗАВТРАКА
Я завтрак развернумежду вторым и третьимв метафору, задев струну,от парты тянущуюся к соцветьям на подоконнике, пахнётпаштетом шпротным,иль докторской (я вспомню гнётучёбы с ужасом животным: куриный почерк и нажим,перо раздваивается и каплясбегает в пропись, — недвижим,сидишь — не так ли и ты корпел, и ручку грыз,и в горле комкалась обида,товарищ капсюлей и гильзи друг карбида?), я разверну, пока второй урокне слился с третьим,свой завтрак, рябь газетных строкгагаринским дохнёт столетьем, кубинским кризисом своимпугнёт, и в раме,дымком из бойлерной кроим,зажжётся Моцарт в птичьем гаме. (Куда всё это делось? — вотразвертыванья всех метаформоих и памяти испод,и погреб амфор. Я вижу маму, как мне жальеё (хоть болен я), и вдруг, в размерахуменьшившись, уходит вдальи, крошечная, в шевеленьях серых,

292Владимир Гандельсман
сидит в углу, тиха.Тогда-то, прихватив впервые,как рвущейся страницы шороха,шепнуло время мне слова кривые.) Теперь давай доразвернисвой завтрак. Парта.Дневного света трубчатые днив апреле марта.

293стихи-III
ЕДУ НА РАБОТУ
Серый платформенныйформенный ливень,веником пахнет вагон.Муха влетает по траектории,скорая воет с открытогокрытого воздуха под мостом.
Где-нибудь на четвёртойвёрткая муха во тьмутюкнется, вылетит прочь.Значит — бездомная, и по имениименно эту никто не окликнет.Бликами блёкнет ночь.
Или же встречного поезда,боязно под козырькомзыркая, чуть подождёт(сокр.: пока дождь идёт).Дёготь тяжёлых шпал.Паловый небосвод.
Что за бесцельный, муха,ухнувший туда-сюдадальний-недальний путь?Скорая едет обратно.Радуется в вагоне дитя,тянется, хочет прильнуть.

294Владимир Гандельсман
ДУША
Будет ли душеушедшее не тяжело?Жалобно ли заскулит,улетев от телатёплого, вмерзая в синийиней неба вдалеке?Лёгкая, что нам сулит
смерть? Разряды зренья?Реянье зарниц в углуглубины ночной?Точно высвеченной почвычавкающее жильё,жилистые руки жизни,изнурённый зной
страсти с высоты,отнятая, вновь увидишь?Дышащая. Никогда.Отдано другим. Не сетуй,сети сохнут или сотысонный мёд баючат, тытише света занята.

295стихи-III
НА ТЕМУ «ОСЕНИ ПАТРИАРХА»
Жидкий (что делать с детьми?!) наконец-то в спальне.Пальба в ушах.«Шах!» ему слышится, следом шахидский мат.Мать, самолёты падают, как плодыдымные в сентябре.
Бренность, мать. Как когда-то я рисовал,валятся человечки с небес.Бес попутал отчизну жалких. Я одинок.Окна зашторить, лечь.Легче не видеть, спать.
Патина зеркала. Жидкий наводит взгляд.Лёд, — как учил актёр,тёртый калач придворный. –Твёрдость. В голосе жесть.Жест — минимальный. Министра!
Быстро всё прочесать и обезвредить — раз.(Глаз двустволка.) Поднять(мать твою) уровень бедности — два.Вал удвоить к среде четверга.Изверга взять живьём.
Вьём верёвки, мать, не из тех. Из тихих.Ихний нрав позволяет — чего не вить?Выть на Волгу.Волки на берегу им перегрызают глотки.Лодки их на море тонут. Не видеть, спать.
Патина зеркала. Капель кремлёвских кап.Клапан сердечный, мать, дребезжит.Жидкий берёт флакон.Кончить Босого, поднять на копьё башку.Шкуру c живого содрать.
Рать сюда, грозную рать!Мать моя женщина, что с детьми –тьмы их! — что делать с захваченными детьмиМинного Поля? Взорвут — и нет.Свет моя дочь, слава Богу, вдали

296Владимир Гандельсман
Италии. Молись за неё. Поп — бывший свой.Воин госбезопасности, японский городовой,воин с гимнастом на шее, –шельма, лоснится весь, –весело, чем не цирк.
Фыркнет интеллигент-дурак.Как и положено чайнику, он кипит.Прыток, пока не дошло до пыток.Токовую, мать, терапию забыл.Пыли этой не счесть.
Есть у них, вшивых, и свой пиит,питан бедами нашими, дрянь.Ранена, мямлит, моя душа.Ужасы перечисляет отчизны, нобезжизнен и пуст.
Пусть они выговорятся. Они мертвы.Рты не заваривают кашу, только жрут.Трудно, мать, исключительно мне.Небо знает. Но я их спасу,сук беспомощных, я
Явь предъявлю им и прикажу: принять!Мать, и примут.Муторно Жидкому на душе.Уши почесывает кошечке Эсэсэсэр. Серо-буро-малиновый спит в углу попугаюшка Кагэбэ.

297стихи-III
***
Любезный брат и друг духовных выгод, когда я вижу мост, я мыслью выгнут, а сердцем серебрюсь, как под мостом течение малейшим лепестком. Великотрепетный мой друг светлейший (немедля назовём ветлу ветлейшей, а то ещё бесследно расхотим), приветствую тебя, ты мне родим! Возьми хоть что, хоть жизнь автомобиля, смотри, как он проносится, двужиля и шинами шипя то «ш-ши», то «ш-шу», и я ему с обочины машу. Собачиной, я слышу, брат вольготный (поскольку для Господней воли годный), меня подразниваешь, вот и зря: собачина к обочине, сестря, по сути льнёт. Я весь живу и весь я добычей стану птичьей поднебесья. Как изумруд травы я изумлён: все изомрут — едва лишь из пелён. Задумайся, на рассмотренье падок вопросов с разноцветьем праздных радуг, духовных пагод друг и нежный брат, над тем, чему так горестно я рад. Чему ряд писем, брезжущих в словарном внезапном срезе кварцем лучезарным, я посвящу и, птичками сложив, пущу в неукоснительный прорыв.

298Владимир Гандельсман
БЕЗУМЕЦ
Средь навзничь облетевших зодчеств, в дождях косых, я был свидетель крупных одиночеств, причём своих, и горько плакал, но потом, упрочась в себе, затих. В руках есть мячик, он резинов, его подбрось – и он летит, пока я, рот разинув, стою, небось, вздымая руки, и затем, раскинув, их вижу врозь. Ты спросишь, много ли в том проку? Но света сноп идёт сквозь это лыко в строку. А мячик шлёп – и катится себе неподалёку. И день усоп. Я приближенью ночи рад уж совсем: строчит швец травчатый, и хор древесных ратуш во мне звучит, и слышу проходящий шёпот: «Брат наш опять мычит». Они прогуливают перед тем, как прилечь, себя, а то замедлятся и вперят свой взгляд, как с плеч его долой. — По-видимому, верят, что я их речь.
«Ий-ий», летя, мне вторят птицы, «ий-ий» вдали, пока к заутрене я им гостинцы крошу земли, а там идут и гасят свет гасинцы. «Ий-ий!» Ушли.

299стихи-III
МЕЛОДИЯ
Слышишь, слуху повинуясь, тихий рост травы? Волны к берегу, волнуясь, припадут, волхвы. Припадут, в песок зароясь, поднесут дары, радость хрупкая, как робость, утренней поры. Звук идёт переливаясь: Валтасар, Каспар, Мельхиор, — перевиваясь, превращаясь в пар. В пар, в дыхание дитяти. Бог, и Царь, и Смерть в Нём раскинут, как распятье, тройственную сеть... Но покуда — сеть рыбачья, пристальный покой, пристань, редкая удача лодочки вон той.

300Владимир Гандельсман
НА ЮГЕ
Стих вьётся — виноград, терраса, над морем акробатка-радуга, – пробежками аллитераций – длиною в два-три слова — радуя. На «эл», на «эф», на «и», на «цэ», на «ю», насквозь светящуюся гостью, всю алфавитицу бесценную увижу розоватой гроздью. И косточки из гласной мякоти зреть будут мир, и в дробном взоре согласных — с вольностью грамматики – вскипит и усмирится море.

301стихи-III
КЛАССИЧЕСКОЕ
Когда умрёшь и станешь морем с безликим разумом его, ещё рифмующимся с горем, но забывающим родство, – тогда ты в раковины эти, в их розовую белизну, вшуршишь с песком тысячелетий свой шёпот и предашься сну. И будет этот сон огромен, как затонувший мир, как свет затопленных каменоломен, которого повсюду нет. Повсюду — нет. Но зренья редкость, но, как испарина во сне, накрапа краткая конкретность проступит вдруг на валуне, но птичий шаг, но тихий ужас, но время хищное в зрачке, но шатким троном краб, напружась, ещё топорщится в песке.

302Владимир Гандельсман
ДВА ПТИЧЬИХ ФОКУСА
1. Зимой
Незримые, но к зренью по пути, под солнцем накренившись в небе зимнем, рассеребрятся голуби, — почти как из кармана фокусника в синем пересверкнёт в подбросе конфетти. 2. Летом
Внезапный дрозд стиха на ветку прыгнул и ветку выгнул. И так зазеленело со двора, что стало пять утра. Потом второй туда слетел, пружиня, и засвистел, разиня. Мгновенье — и прижился он, прижимистый до жизни, цепкий сон. У третьего смеялся в клюве листик. Кто, Велимир, их траектории рассчитывал? Баллистик? Сорвавшийся с когтистых растопыр, – (мир так безосновательно был вынут и вырезан внутрь яркости своей, как ящик фокусника: выдвинут и вдвинут) – ты кто, перепорхнувший средь ветвей?

303стихи-III
НОЧЬ
Дежурный чай. Сиди, немей. Длинна ночь. Безусловный воздух свеж. Кому ты говоришь: немедленно меня утешь? О смерти не пытай. А то ещё сойдёт с невидимой оси, – и не услышишь голос, тонущий в ночи: спаси. Я знаю, ангел мой: тоска. Давай без тёмных таинств. Продержись в своём уме и не разгадывай свою не-жизнь, где не вдохнёшь ни ночь, ни таянье снегов, ни даже эту тишь с чаинкой чистого отчаянья не ощутишь. Неоспоримых звёзд раздрызг, и на ветвях сверканье, и не смей пускаться в пряный бред изысканный. Сиди, немей.

304Владимир Гандельсман
ПРОГУЛКА
В осеннем воздухе знобящем, да в сером городе болящем, да в переулочке глухом аттракцион маячит шатко – «Качающаяся лошадка». Дитя верхом. А дальше чуть, на тротуаре, в пантомимическом угаре сидит дурак и мечет взор. Сиди себе, жестикулируй, веди с невидимою лирой свой разговор. Змею погибели на впалой груди пригрев, с листвой линялой в своих лохмотьях заодно, шипит: другого-то не сыщешь нигде, ты слышишь? Мне всё равно. Другого? Сам себе не ровня, спокойнее и хладнокровней смотрю извне, как жизни маленькие смерти – секундный шаг в осеннем свете – идут во мне.

305стихи-III
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
Вот-вот начнётся штурм. Кленовых листьев взвод вдоль тротуарных урн и фонарей ползёт. Вчера захвачен парк, теперь вдоль мостовой шарк гимнастёрок, шарк, ползущий шарк живой. На выкрик ветра все взметнутся, и — внахлёст – за взорванным шоссе взлетит на воздух мост. Миг битвы золотой, – и, медлящий упасть, за третьей высотой взвод ляжет в жаркий пласт. И если по ветвям свет солнца пробежит, – какой светоний там средь цезарей стоит!

306Владимир Гандельсман
*** Олегу Вулфу
В пехотный холод снаряжайся, непререкаемый мой брат. Я говорю листве: снижайся! – она снижается. Я рад. Сзываю белок узкомордых, они как буковки на вид, а то еще журавль в ботфортах прощальным образом стоит. Беспрекословный брат! Кочуя, где славишь царственный удел? Поверишь ли, вчера, не чуя себя, летал над миром тел. Когда в небесный край нас примут, когда из розничных забав телесно бедственных изымут, – не будет ли Всесильный прав? Сегодня тихо и свежайше дохнуло холодом с холма. Я снегу говорю: снежайся! И он снежается. Зима.

307стихи-III
НА ФОНЕ ГОРОДА
Человек вращает яблока полуогрызок средним пальцем и большим, указательный к ним тоже близок, белозубый человек непостижим. У автобуса прощаются ступенек молодые, обострившимся лицом плачет девушка, и глаз её, как пленник, скорбно смотрит над его плечом. И поёт нежданно женщина проездом, серебрится поезд в темноте, никому своим весельем бесполезным зла не делает, и нет его нигде.

308Владимир Гандельсман
ИЗ КАТУЛЛА
Я как вспомню ревность, мальчик: она с другим, и увижу, что они делают, мальчик, — страшней, чем смерть. Но теперь сравнится с этим только «хер с ним». Или «с ней». Но ещё равнодушней. Посмеиваешься? Не сметь! Ни как он ведёт меж её ветвей сладостную ладонь, ни как пальчики её прикасаются к явственному суку, я не помню. Ни как их объемлет, так твою мать, огонь. Хоть убей, их стенанья, мальчик, — поверишь? — не на слуху. Да горит тот проклятый год в необратимом огне, о, во веки вечные, с ненавистью моей. — С такой, что когда бы не сделал небывшим бывшее Всемогущий, мне бы пришлось, бы-бы, бы-бы-бы, это сделать своей рукой. И когда бы нынче мы пахотой с ней занимались, и соль разъедала бы спины наши, плечи, мальчик, лобки и лбы, и она меня спрашивала бы, пахотно ль, хорошо ль, как тогда, сослагательно выл бы в плечо ей: бы-бы-бы. Но теперь не то. Клетки мозга, в которых стояла вонь и по зверю жило, и всяк в том зверинце сжирал своих, опустели и отмерли, мальчик. Меж тех ли ветвей ладонь я веду? Не помню, — сильней, чем мёртвый не помнит живых.

309стихи-III
СТИХИ ДЛЯ ЕЛЕНЫ
1 стремянка за кухонной дверьюверёвки сушёных грибовнедолго спать ёлочному зверьюприближение слышится скрипов
есть тяжёлая на антресоляхкоробка до поперечно-продольных ран перевязанная да пыль в углахгде рулоны обоев зелёных
есть игрушек насесты-гнёздав той коробке избушка круглаа на крышу как синий воздухснега белая шапка припухло легла
и в окне её несгораемый золотойсвет орешек грызёт на верхнейветке белка бочоночное лототы найдёшь в подарок заветный
но потом потом а пока будирыб и птиц картонного серебра в серпантиновой пёстрой сетии бегущего лыжника шара
шар в котором вырезан внутрьконус переливающийся достаньс усыхающей ёлки в одно из утрупадёт тонкостенной игрушки склянь
перед этим лёгкая осыпь иглчуть коснётся слуха потом потомя тебе подарю то что мне дарил в мандариновом свете дом
а пока стремянку расставь раскройантресолей дверцы и бельевуюна коробке развязывай мойдрагоценный верёвку простую

310Владимир Гандельсман
2Прийти туда платановой тенистой улочкой,песок слепяще бел, а если ступишь,то обжигающ, ракушек кулёчкикрошащиеся собирать на бусы,
в ларьке их крашеные продают приморском,хочу мороженого, море оловянносинеет, белая медуза мозгомплывёт или на берегу мерцает вяло,
кружок картёжников: мурлычет первый,второй, как веер, распускает карты,у третьего на среднем пальце перстеньмассивный, со «Спидолой» пятый,
и кромкой моря с осликом фотографидёт, как если бы ходила радость,ребёнок с топчана бежит и, ослика потрогав,смеётся, ласковая безвозвратность,
потом он обернётся на родителя,во взгляде храбрости огонь победный,но и смущение, в безделье длительныйдень тянется, как водоросли в бредне,
потом вернуться в пахнущую солнцеми краской пола комнату, и перед этимувидеть новых дачников, морскою сольюу девочки плечо чуть серебристо светится.

311стихи-III
ТОЛСТОЙ
Я с точностью объёмной лепки стойкой мир запущу, следи за небывалой стройкой и стайкой птиц, летящих сквозь каркас, за размышлением, плющу подобно, вьющимся, — и восхитимся врозь. Пожалте в человеческий зверинец! Вот мягкий вплыл хозяин, а жена, мизинец отставив, попивает чай, румяный рот красавца, пряный пыл и вздор политика, — а рядом? — привечай того, кто всех окажется сердечней, кто отведёт в смущении свой взгляд от встречной неправды, от того ли, как, рассевшись в кресле, шутит идиот, в лорнет рассматривая собственный башмак. Расти, спокойный дом гостеприимства, где вечера, и пунш, и столики для виста, и всплеск из детской голосов – два брата, две сестры, ещё сестра, – и эхом всплеска отзовётся бой часов. Пусть кто-нибудь весной воскликнет: «Лёгко!» И следом мне напишется так многооко: «Он отворил окно», — и вдох, отрадный вдох, и силуэт в окне, и голос девичий, — всё станет ясно: Бог. Тогда я двину войско против войска, и роевой закон движения (повозка в грязи, солдат налёг плечом) мир обезличит песней строевой и общим — в нервном оживлении — лицом.

312Владимир Гандельсман
Следи, как я отстрою мир громадный на пустыре, оставив средь пролётов мятный трав аромат, в июльский день начав, когда, упорствуя в жаре, дуб оживёт листвой, — и дрогнет светотень. Вот здесь он и умрёт, на этом месте. И если грех, то — гордости ума и чести, – взглянув с презреньем и пожав плечами, ибо на глазах у всех нельзя иначе. Так! И в смерти моложав. Нежно-насмешливый с ним прекратится двусложный взгляд, но переливчатый родится в двойном определенье звук и сопряжёт цветенье и распад. Нежно-насмешливый, прощай, геройский друг. Смотри, как я свяжу намёки, жесты, обмолвки, сны, мужской театр войны и женский – сочувствия, смешав их кровь, – в единый узел, в прозу новизны, в судеб скрещение, — и восхитимся вновь! И вновь заложником безликой силы предстанет мой герой рассеянный и милый, и торопливость палачей, их рук, увидит, и расстрел самой, сугубой, дышащей, мгновенье — и ничьей, божественной, великолепной, явной, не может быть, чтобы моей, простой, бесславной, живущей жизни. Что ж, мой свет, бессмертная душа, учись любить без той привязанности, без которой нет

313стихи-III
любви. Но есть. Когда читаешь неба ночную синь как книгу бытия, то где бы вчера ты ни прервался, ты находишь то, что твёрже всех твердынь, всё в той же ясности, в обвале немоты. Когда-нибудь, уже постигнув книгу насквозь, до дна, осилив мощную квадригу, в печальнейший, быть может, час, ты не найдёшь её, и чья вина, скажи, что мир исчез и обошлись без нас? Есть здравый смысл посредственности, он-то непобедим, – его ухватистость животна, есть продолженье рода, есть растительная страсть, есть прах и дым. Не в них ли и пресуществился мир? Бог весть.

314Владимир Гандельсман
ПОКУПКА
Я вышел выйти, потом в рассеянности сбоку ненужную купил вещицу, забыл какую, осеннее ласкалось солнце котёнком неба, «мяу...», — окликнуло, но дальше опять не помню, вещицей оказаться море могло, — так в блеске глухонемое и в тишине лежит — ни всплеска, и сам себе воздушной почтой я переслал его, чтоб стало синеве без мысли проще.

315стихи-III
НАЧАЛО ЗИМЫ
Фигурка глиняная в кресле, в изменчивых объятьях белых. Электропередачи крестный ход мимо дома престарелых. Вот в кресле привстаёт калека и Господа о чём-то просит, и вертикальный ветр эль греко вдруг вытянутого уносит. Лети, приятель-сновиденье! Во славу небосвод расколот тебя и резкого паденья температуры. Ясный холод.

316Владимир Гандельсман
***
Случается, днём переулочным катают больное дитя. Столкнёшься со взглядом придурочным, и слёзы задушат тебя, – так бродится зябко в тиши ему, как если б он был обращён всей нежностью к Непостижимому, отвергнут и тут же прощён.

317стихи-III
ВЕЧЕР ПОЭЗИИ
Певец Империи, прославленный во всехуглах отечества, обрюзг.
Одутловат, отёчен.Он знал успех.
Теперь шевелится как бы моллюск.Слог притупился, не отточен.
Он, верноподданных не сочинявший строк,исследовал имперский дух,
менталитет гниенья.Впитав порок
Империи вчерашней, сам протух.Где вы, нестрашные гоненья?
Цензура где? Когда зелёные юнцыи девицы из-под полыего читали, — сладок,
во все концы,дымок отечества, во все углы,
летел, охоч до тайных складок.
Где мягкий девичий и восхищенный стыд?Легчайшая хмельная «love»
где? Там, всемирен,он и стоит,
не дожевав шашлык, что был кровав,и окружён лучком, и жирен.
Там, у «Кавказского», вгрызаясь в шашлыки,он и обламывал, навзрыд
кляня Советы,свои клыки.
«Короны нет. Коронки». Он острит.И смотрят в рот ему поэты.
Рот полон дикции. Он в точности ИльичВторой, с параличовым ртом.
Он плоть от плоти.Пред ним кирпич
его имперских сочинений. Томв златопурпурном переплёте.

318Владимир Гандельсман
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЬЕСА
Сначала дверь со скрипом, пауза, со скрипом отворяет он, и видит воздух цвета паруса, и медлит звуковой наклон, ещё чуть-чуть — и разыграется, сарай дощатый в световых – сквозь щели — струнах разгорается, и следом вспыхивает стих. Он струнные пласты складирует, и вдруг в раскрытое глядит, где вся во фраке, вся солирует, вся эта ласточка летит, вся эта ласточка, в извилистом изливном звуке исхитрясь, вверх падает всем тельцем жилистым, на солнце искренне искрясь, и, удалившись в точку таянья, уже невидима почти, почти что противостояние кусту весомых чувств пяти, на милостивое снижение идёт и нотой в синевах, ей данных в чистое служение, звучит, занежась на крылах. Тогда от индивидуального её паренья оторвав свой взгляд, забывший в пользу дальнего оркестр подручных переправ на берег точного, древесного распила, — он ведёт, как строй, смычковый гул соседства тесного на тёс дымящийся, сухой. Оркестр в подмышечных подпалинах, и первый слышится раскат ударных, — с улиц ли, расплавленных жарой, доносится обряд,

319стихи-III
и похорон в провинциальности какого-нибудь городка свидетель, жертва их тональности, дитя глядит на облака, – гремит ли по соседству кузница и раздуваются ль меха, – он знает: свод громами грузится в согласье с музыкой стиха. Крестись, дурак, крещендо мощное, сирени в крестиках озноб. Он наклоняет лоб наморщенный. Рабочий день, тесовый гроб. Сосновый лес за лесопилкою. Он радуется не спеша, – там разогретая и пылкая остужена его душа. О чём ты, пьеса бесполезная? Сон за стежком ведёт стежок, покуда ласточка, как лезвие, не разошьёт ночной мешок.

320Владимир Гандельсман
СОН ПАМЯТИ ДРУГА
Как дерево корнями, вглубь прорастает сон, и зыблется огнями, перевиваясь, он.
Перебиваясь с хлеба на воду тех краёв, где очевидней небо и безусловней кров,
он миг спустя петляет, и, невесом и тих, бродяжит и плутает в краях, где нет живых.
Ни рая нет, ни ада, ни логики земной, но умершему надо там встретиться со мной.
Там, как в часах песочных, как перешёпот двух времён, сторон височных, есть абсолютный слух
у жизни и у смерти, на перешейке сна. Прильнув к тебе, на третью ночь, донырнув до дна,
я спал, и было сладко мне этой ночью спать, так в книге спит закладка, уставшая читать,
в созвездье слишком близких букв, чтобы видеть. Но душа, казалось, в бликах ночных, с твоей — одно,
душа, казалось, сдастся, и ей в земной придел вернуться не удастся. Да я и не хотел.

321стихи-III
ПАМЯТИ ЛЬВА ДАНОВСКОГО
Как до тебя, оставшегося впереди, намеренным, или случайным, или чрезмерным словом, но дойти, избыточным и чрезвычайным? Рехнувшееся ремесло. Как если бы слепой стекольщик алмазом воздух резал, как стекло, полотен световых раскройщик, и мнимые квадраты полотна оконного, ощупывая небо, отбрасывал и близил отсверк дна, и вдруг — добыл его и озарился слепо.

322Владимир Гандельсман
ПАМЯТИ ВОЛОДИ ДВОРКИНА
На Северной Двине, за Нижней Тоймой, белеет вечер, навсегда спокойный, и так воде и небесам легко, что видишь дальше смерти, — далеко. Вдоль Северной Двины, за Нижней Тоймой, идём с тобой мы, вдыхая воздух, на его блесну попавшись. Слово странное: взгрустну. На Северной Двине, где есть районный центр, поднимай стакан гранёный. Продмаг с крупой и плавленым сырком. Что в горле? Ком. На Северной Двине, за Нижней Тоймой позвякивает вечер рукомойный. Куда ты смотришь? Что там вдалеке? Малец несёт подушечки в кульке. И стелят небеса, и верхней тайной летит, летит печальный отблеск стайный.

323стихи-III
***
Женщина смотрит на беглые очертанья облака, на летящее его таянье, щурится, говорит: он там. – Где? — Вон там. Это утро на финском взморье, сосновом, близком. Мальчик, завёрнутый в махровое полотенце, и полусолнце из полудетства. Он балансирует на одной ноге невдалеке. Это первые затеванья возраста: переодеванье. Девочка на прибрежной полосе тут как тут, – от одного песчаного замка нежный танец к другому, бабочки необязательный труд. Это тельца её свеченье, это первый укол влеченья. День измеряется тиканьем на мелководье мальков, с их прозрачным и тихоньким тиком и позвоночной извёртливостью рывков. Это первые выпаденья в Его владенья. День измеряется перебираньем ягод вечером ранним, отрыванием звёздчатой зелени от клубники и обнажением её белокруглой лени. Это первые утоленья взгляда на облако в отдаленье.

324Владимир Гандельсман
***
Сестре Инне
Мы остались на поверхности земли колыбельной песней для того, кто ушёл, кто дальше, чем вдали, кто утратил жизни вещество. Как дитя укладывает спать, наклонясь над колыбелью, мать, так и мы с тобою жить должны, над землёй склоняясь, навсегда нежны. Видишь, спящего и сон не разделить, – слухом стань и поступись собой, чтобы сетованьем не будить тайного безволия покой. Мать отводит истощённый взгляд на окно, на заоконный сад, – ни живой ни мёртвый, он притих, словно там отсутствие сошлось двоих.

325стихи-III
АСТРОЛЯБИЯ ЖИЗНИ
На свете счастья... А.С. Пушкин
В серенький день оказаться в Царском Селе, в серенький, ты не спорь, моя тень, – я в полухолоде, ты в полутепле, выпив, конечно, иначе-то как бы увидел себя счастьем, которое только что начато, чёрная в блёстках скамья. В серенький день пробрести меж дворцовых камней. Это работа на местности, тень, и астролябия жизни моей. Астр тяжёлый букет от привокзальной нести площади, каплющей на просвет и освещённой капельницами к шести. В колбе, которую царственный Сам держит, дышать и на ней видеть по выгнутым небесам будущий промельк огней, высветивших чуть заметного в центре как остановленный кадр. Разве на свете нет его? Нет, Александр?

326Владимир Гандельсман
ОДА ОДУВАНЧИКУ
На задворках, проложенных сланцевым светом, — вот он, на глянцевом стебле. Воткнут. Воткнут. Сорван, — змеиное молоко – тонкий обод, – бел и лёгок, как облако, распыления опыт, – вот он, добыт. Точно лампу, несу его медленно, мне так долго не велено, – вечереет, – вечереет вчерне, — мне не велено. В небе реет то, что прахом развеяно на земле, быстрый лепет. Но не греет. Долго так не гуляй, мальчик с лампою. Эту оду я нам пою. Эта ода Одуванчику, слепку и копии небосвода, и себе в том раскопе, и – мне там трижды три года – жизни ода. Шевельнись — и слетит с одуванчика пух, с цветка-неудачника. Помню шёпот мамы: «...роды...» — (о тётушке) — «...умерла». Села штопать. Или, скажем, пол подмела. Распыления опыт. Вот он, добыт. Точно лампу, моргнувшую на весу, на пустырь его вынесу, и вот-вот свет Одуванчика сгинет безропотно.

327стихи-III
Там, где нас нет. Дуй! — он дёрнется крохотно, – в мире что-нибудь лязгнет, – и погаснет.

328Владимир Гандельсман
***
завёрнутая в одеяло кастрюля варёной задохшимся жаром пылает за дверью слегка притворённой ждёт после работы ещё носоглотки леченье над паром ещё с боковою застёжкою боты сырым тротуаром ноябрьским и день рожденья и левитановы обращенья картофельный бело-рассыпчатый сон жизнь я потрясён вниманье твоё скрупулёзно столь близкую даришь мне встречу с кем розно и в памяти шаришь и там обещанье находишь такое как медленное обнищанье календаря отрывное как если бы помнил оттуда сегодняшний день задохшимся жаром пылает причуда и замертво падает тень

329стихи-III
***
Как у зеркала, напомаживая губы, делала их немного внутрь, и тогда розовели зубы. На работу выход в раннюю утварь утр. Там застёгивается вдали Нева, как теченье времени, на прозрачный лёд. И остроги и острова коченеют, и ярко дымит завод. И глаза слезятся по цельсию. Те сцепленья льдин, остановленная процессия, – это время, ставшее в будущий миг один образом. Теста под полотенцем замес вафельным в одну из суббот. Вечерами играла вдруг полонез Огинского, смеясь и сбиваясь с нот. Вот что осталось от жизни: запах холода в чёрно-бурой лисе, тёмно-сине-зелёные выси неба зимнего, преломляющиеся в слезе.

330Владимир Гандельсман
***
Он убедительно пророчит мне страну, Где я наследую несрочную весну... Е. А. Баратынский Когда я поворачиваюсь на бок и вижу в полусне тахту и пару тапок под ней, и на тахте отца, как он лежит, вдруг всхрапывая, в той же позе, что я, когда в подушку пол-лица вмяв, руки на груди скрестив, когда, как в прозе, я в сумрачную комнату вхожу, в деепричастном полуобороте его запоминая, и вожу пером по белому листу, темнеющему вроде окна, где снег и небо пополам, и день кончается и гаснет по углам, когда, почувствовав мой взгляд или услышав половицы скрип, он проснётся, невпопад почти что крикнув со страницы: «Что?» — «Ничего», — отвечу, спи, мне это снится.

331стихи-III
НАЧАЛО
Давай готовиться. Уложим готовальню: рейсфедер, циркуль, транспортир. Путь дальний. Вот измеритель. Вот пустырь. Пространство белое зимы, шершавый ватман, пенал, набор иголок, тушь. Слух ватный после болезни, в горле сушь. У кочегарки свален уголь. Вот угольник. С крест-накрест шарфом на спине невольник рассмотрит карту на стене. Все концентрические трещины в паучьем порядке перед ним рябят. Заучим райцентров имена, мой брат. Давай готовиться. Горит с подщёлком тара. Ты из какого, кингисепп, кошмара? Иль это сланцы? Я ослеп. Мне тосно в киришах, рычит на тихвин волхов и колтуши лежат ничком. Ни вздоха. Ни даже признака ни в ком. Нет никакого выборга в металлострое. Откуда взялся этот бред? Сырое пространство, проездной билет. В калошах хлюпает. Зима слаба в коленках. Вот кинохроники с утра на лентах мерцанье страха. Мне пора.

332Владимир Гандельсман
Фонарно-точечный. Неоново-фонарный. От горя к горю перебег угарный. Гарь времени легла на снег. Посадки-допуски, тиски, напильник, фаски, жёлто-ремонтных мастерских две фрески, – полуподвальных окон дых. Когда с посадочным, уже затеяв бегство от производственных резцов, от бедствий труда и лозунгов отцов, заходишь в слякотный вокзал гудящих пазух – вокал бетона и стекла в запасах тоски велик, сиянье, мгла – и в тамбур лузганый, перешагнув расщелье, с платформы входишь, — нет тебе прощенья в повиновении судьбе.

333стихи-III
***
Я более люблю всего, когда врасплох из ничего ловлю сознания сполох. Оттуда, где привык не быть, из ничего — краеугольный сдвиг в земное существо, — я более люблю вещественную весть его, чем жизнь саму. Он лучшее, что есть. А ночи не страшись и утра не проси, рукою дотянись и лампу погаси.

334Владимир Гандельсман
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
Был праздник, шли крикливые латинос, визжала санитарная сирена, и площади в огнях цвела арена (в один из дней, в один из дней, в один из). И вдруг всё истончилось, мимоходом, и, нежная, из праздничного гула, день обезличивая, ночь прильнула (да что там ночь, да что там), и из окна романс донёсся: «Если, как звёзды, мы с тобою отпылали, была ли жизнь, была ли, ла-ли, ла-ли? И есть ли, есть ли?» Пока там некто пел, точнее, пепел, я бросился к витринной чёрной плеши, где должен был бы встречным быть себе же, но не был.
2004–2007 гг.

Содержание
БИО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
стихи-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
«Сквозь тьму непролазную, тьму азиатскую, тьму...» . . . . . . . . . . . . . . . . . 21«Расширяясь теченьем реки, точно криком каким...» . . . . . . . . . . . . . . . . 22«Бывали дни безмыслия, июль...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23«Вот и Нила разлив...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24«Я тоже проходил сквозь этот страх...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Из цикла «ШУМ ЗЕМЛИ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
«Потому что я смертен. И в здравом уме...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27«Я верил в бога Ра...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29«Так посещает жизнь, когда ступня снимает...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30«Ляжем, дверь приоткроем...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31«Проснувшись от страха, я слышал, он вывел меня...» . . . . . . . . . . . . . 31
«Назови взволнованностью земли...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33«Чудной жизни стволы...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34«О, вечереет, чернеет, звереет река...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35«Я возьму светящийся той зимы квадрат...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36«Я посвящу тебе лестниц волчки...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37«Остановка над дымной Невой...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38«Тому семнадцать, как хожу кругами...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39«Ранним, ранним утром бредётся...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40«Лучшее время — в потёмках...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41ЦАПЛЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42«Я жил в чужих домах неприбранных...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43УТРЕННИЙ МОТИВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45СТИХИ ПАМЯТИ ОТЦА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
1. «Ночь. Туман невпродых...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462. «Узкий, коричневый, на два замка саквояж...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463. «Я шлю тебе вдогонку город Сновск...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
«Футбол на стадионе имени...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48«Из пустых коридоров мастики...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49«В георгина лепестки уставясь...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50«По коридорам тянет зверем...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51«Поднимайся над долгоиграющим...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52«Тихим временем мать пролетает...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

336Владимир Гандельсман
«Птица копится и цельно...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54«Это некто тычется там и мечется...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55«и одна сестра говорит я сдохну...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56«Мать исчезла совершенно...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57ВОСКРЕШЕНИЕ МАТЕРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58«Хочешь, всё переберу...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59ТЕМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61ЭМИГРАНТСКОЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63ПАРТИТУРА БРОНКСА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65«В полях инстинкта, искренних, как щит...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66БАЛЛАДА ПО УХОДУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68ОДИНОЧЕСТВО В ПОКИПСИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70МАРИЯ МАГДАЛИНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71ДИПТИХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
«Две руки, как две реки...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72«Тук-тук-тук, молоток-молоточек...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
РАСПЯТИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74ДЕРЕВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75«Тридцать первого утром...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76ВЕЩЬ В ДВУХ ЧАСТЯХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
«Обступим вещь как инобытие...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78«Шарфа примененье нежное...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
«Я вотру декабрьский воздух в кожу...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79ХУДОЖНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
«C Колокольной трамвай накренится...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80«Кто сказал, что мир настоящий...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
ВОСКРЕСЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
запасные книжки. часть первая: чередования . . . . . . . . . . . . . . . . 82
стихи-II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
НАБРОСОК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137ТЕАТР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138ГОЛЬДБЕРГ. ВАРИАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
1. 1955 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1402. Отпуск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1413. Шахматная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1424. День рождения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1425. Пятница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
«Боже праведный, голубь смертельный...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

337содержание
ПРОЛИСТЫВАЯ КНИГУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146ЦПКиО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147РОМАНС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148«Мать жарит яичницу...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149НА ВЕСАХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150КОСНОЯЗЫЧНАЯ БАЛЛАДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151ИЛИАДА. ДВОЙНОЙ СОН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152ПОЛИГРАФМАШ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154В СТОРОНУ ДЗЕРЖИНСКОГО САДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156МОТИВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157«День дожизненный безделья...». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158В ПОЕЗДЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159С ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160В БЛОКНОТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161ОБХОД С ДОСТОЕВСКИМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162ЗАБОЛОЦКИЙ В «ОВОЩНОМ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164ЛИРИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
запасные книжки. часть вторая: человек отрывков . . . . . . . . .166
школьный вальс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
Посвящение № 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197Посвящение № 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197Посвящение № 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1971. Матвеева, Зотикова и Антон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1982. Серебряков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1993. Белова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004. Александр Старший . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015. Шарманка (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026. Иван Иваныч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2037. Матвеев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2058. Тарховка (А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2069. Веранда бытия (а) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20710. Классная баллада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20811. Шарманка (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20912. Первое сентября . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21013. Философия-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21214. Историчка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21315. Лирическое отступление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21416. Цикада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

338Владимир Гандельсман
17. Шарманка (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21618. Вечер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21719. Ночь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21820. Тарховка (В) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21921. Процесс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22022. P.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22123. Шарманка (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22224. Урок русского/литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22325. На дачу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22426. Рябинкова и Антон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22527. Веранда бытия (б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22628. Под Новый год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22729. Шарманка (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22830. После школы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22931. Пение и рисование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23032. Времена года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23133. Импровизация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23234. Философия-II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23335. Шарманка (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234Послесловие № 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235Послесловие № 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235Послесловие № 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
эссе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
КОНСТАТАЦИЯ ШАЛАМОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237ПИСЬМО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СИМПОЗИУМЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248ВТОРАЯ РЕЧЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253ДИАЛОГ С УЧАСТИЕМ ИВАНА ИВАНЫЧА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257ПОЭЗИЯ КАК РЕЛИГИЯ. РИЛЬКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261ЖЕЛАНИЕ, МЫСЛЬ И ВРЕМЯ В «МАКБЕТЕ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
стихи-III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
БОЛЕЗНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289«Всё это жар...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289«В той лампа есть ночи...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
РАЗВОРАЧИВАНИЕ ЗАВТРАКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291ЕДУ НА РАБОТУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293ДУША . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

339содержание
НА ТЕМУ «ОСЕНИ ПАТРИАРХА» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295«Любезный брат и друг духовных выгод...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297БЕЗУМЕЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298МЕЛОДИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299НА ЮГЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300КЛАССИЧЕСКОЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301ДВА ПТИЧЬИХ ФОКУСА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
1. Зимой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3022. Летом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
НОЧЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303ПРОГУЛКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304ЖИЗНЕОПИСАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305«В пехотный холод снаряжайся...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306НА ФОНЕ ГОРОДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307ИЗ КАТУЛЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308СТИХИ ДЛЯ ЕЛЕНЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
1. «стремянка за кухонной дверью...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3092. «Прийти туда платановой тенистой улочкой...» . . . . . . . . . . . . . . . . 310
ТОЛСТОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311ПОКУПКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314НАЧАЛО ЗИМЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315«Случается, днём переулочным...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316ВЕЧЕР ПОЭЗИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЬЕСА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318СОН ПАМЯТИ ДРУГА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320ПАМЯТИ ЛЬВА ДАНОВСКОГО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321ПАМЯТИ ВОЛОДИ ДВОРКИНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322«Женщина смотрит на беглые очертанья...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323«Мы остались на поверхности земли....» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324АСТРОЛЯБИЯ ЖИЗНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325ОДА ОДУВАНЧИКУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326«завёрнутая в одеяло...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328«Как у зеркала, напомаживая губы...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329«Когда я поворачиваюсь на бок...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330НАЧАЛО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331«Я более люблю...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333ИСЧЕЗНОВЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

Владимир Гандельсман
ОДА ОДУВАНЧИКУ
Академический проект «Русского Гулливера».
Руководитель проекта Вадим Месяц
Подписано к печати 30.03.2010. Формат 140 × 205.Бумага офсетная. Гарнитура NewtonC.
Печать офсетная. Тираж 500 экз.
Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «Сherry Pie»112114, г, Москва, 2-й Кожевниковский пер.,12
«Русский Гулливер»тел. +7 495 159-00-59
По поводу покупки книг звонить:+7 (905) 575 4103Олег Асиновский