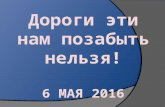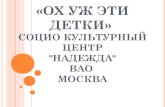РЕЦЕНЗИИ · 2013. 5. 30. · 154 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra ˜...
Transcript of РЕЦЕНЗИИ · 2013. 5. 30. · 154 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra ˜...

152 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra
Какой видится Путину послепутинская Россия? Задумывается ли он когда-нибудь всерьез о преемнике? Может ли
он себе представить, что будущий президент России будет избран гражданами на свобод-ных честных выборах? Чего он больше боит-ся — «дворцового переворота» или массовых протестов? На что он скорее надеется — на «бессмертие» или на «клонирование»?
Конечно, мы не можем узнать, что проис-ходит у Путина в голове, но вполне можем об этом порассуждать. «Каждая уважающая себя служба внешней разведки должна иметь своего путинолога, — написал недавно Ричард Лури, автор биографии академика Сахарова, — потому что президент Владимир Путин правит всей Россией один. Его слово — закон». Не удивительно тем самым, что боль-шинство тех, кто ставит себе целью объяс-нить процессы, происходящие в современ-ной России, в результате пишут путинскую биографию — историю загадочного человека, бывшего полковника КГБ, который тринад-цать лет назад пришел в Кремль из ниоткуда и теперь не может оттуда уйти. Чтобы понять сегодняшнюю Россию, необходимо понять Путина. Поэтому его биографии не просто сообщают нам о том, что было, но и пытают-ся угадать, что будет дальше.
Фионе Хилл и Клиффорду Гэдди в их новой книге «Владимир Путин: На опе-ративной работе в Кремле» лучше других удалось ответить на вопрос о том, что будет. Это глубокое и вдумчивое исследование — идеальный образец аналитической биогра-фии, настоящий подарок специалистам по России от Института Брукингса. Авторы (в 2003 году они написали высоко оцененную всеми книгу “The Siberian Curse: How Communist
Planners Left Russia Out in the Cold” * (в России вышла в 2007-м под названием «Сибирское бремя: Просчеты советского планирования и будущее России») рассматривают конкрет-ные примеры действий — или бездействия — Путина в широком контексте того пути, который проделало российское общество за последние двадцать лет. Их книга не о том, как Путин спас Россию или, наоборот, погубил ее. Не претендуют Хилл и Гэдди и на то, чтобы сообщить нам о каких-то доселе неизвестных «новых фактах». Их труд — это честный и скрупулезный анализ того, что уже и так известно; авторы книги используют прием «исторического воображения», в осно-ве которого неукоснительная привержен-ность факту, понимание российской культуры и здравый смысл.
В своем исследовании Хилл и Гэдди исхо-дили из того, что, принимая то или иное решение, Путин руководствуется не идео-логическими принципами, а собственным опытом. Задача книги — реконструировать этот опыт. «Путин сам формировал свой политический путь; в значительной степени он отражает базовые составляющие его лич-ности», — пишут авторы. Иными словами, для авторов книги рассказать о Путине озна-чает выявить и описать его главные идентич-ности: государственника, пленника истории, мастера выживания, «лидера-одиночки», сторонника свободного рынка, сотрудника спецслужб.
Представляется, что фигура Путина и его популярность среди сограждан объяс-няются коллективным опытом российско-
* См. рецензию на эту книгу: Pro et Contra. Т. 9. № 1. 2005. С. 104 —109. — Прим. ред.
РЕЦЕНЗИИ
Fiona Hill, Clifford G. Gaddy. Mr. Putin: Operative in the Kremlin. Brookings Institution Press, 2012.
(A Brookings Focus Book). 390 p.

Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 153
Рецензии
го общества 1990-х годов. В основе этого опыта лежит распад Советского Союза и порожденный им кризис. Поколение Путина не испытывает ностальгии по совет-скому прошлому, но считает СССР своей родиной. Когда страна развалилась, у рос-сиян возникло ощущение ненадежности, хрупкости всего жизненного устройства и неуверенности в завтрашнем дне. Эта неуве-ренность во многом объясняет мощное стремление к власти и обогащению, харак-терное для российского общества путинско-го периода, но кроме того, она позволяет понять странную амбивалентность режима Путина в том, что касается отношения к авторитаризму и демократии. За короткое время Россия испытала на себе все минусы обеих систем. Поэтому не удивительно, что хотя путинский режим с готовностью при-бегает к авторитарных практикам, он тем не менее не делает окончательного выбора в пользу авторитаризма. Российский пре-зидент и его приближенные на самом деле знают, что спецслужбы не обеспечивают выживания. Они ведь сами там работали и не смогли уберечь ни коммунистический режим, ни Советский Союз.
Путин-государственникДержавнические взгляды Путина — не след-ствие его опыта службы в КГБ и не носталь-гия по советскому прошлому. Они имеют более глубокую и важную основу и соответ-ствуют желанию всего российского общества забыть о позорной слабости государства пер-вого постсоветского десятилетия. То потря-сение, которое испытало общество перед лицом полного провала государственной власти, объясняет не только то, почему Борис Ельцин назначил Путина своим преемником, но и то, почему большинство россиян сразу признали бывшего полковника КГБ своим лидером. И именно тот факт, что сегодня 1990-е постепенно стираются из памяти, явля-
ется причиной снижения путинской популяр-ности. В основе путинского договора с рос-сийским народом лежал суверенитет России, а не просто рост благополучия. В 2000 году граждане хотели жить в государстве, которое можно было бы уважать, потому что государ-ство 1990-х уважать было невозможно.
Путин — пленник истории В отличие от многих критиков Путина, утверждающих, что Путин — человек, случайно оказавшийся у власти, который живет только сегодняшним днем и в первую очередь стремится к личному обогащению, Хилл и Гэдди в своей книге доказывают, что Путина можно назвать лидером, нахо-дящимся в плену истории: он знает о своей исторической роли и постоянно ищет отве-ты в российском прошлом, однако ему так и не удалось предложить адекватное для XXI века видение российского будущего. Его восприятие российской истории вызывает в памяти обращение «господин-товарищ», вошедшее в употребление в исторической сумятице 1920-х годов, когда люди переста-ли понимать, в каком времени они живут. Для Путина, как и для семьи Комаровых из повести Набокова «Пнин», «идеальная Россия состоит из Красной Армии, пома-занника Божия, колхозов, антропософии, Православной Церкви и гидроэлектростан-ций». Путину не видится ничего странного в том, чтобы российские граждане праздно-вали и годовщину победы в Сталинградской битве, и юбилей династии Романовых. Для него российская история прежде всего — спо-соб сохранить Россию. Но этот инструмен-тальный подход не следует путать с сурков-ским утонченным цинизмом, замаскирован-ным под постмодернистскую философию. Отношения путинского поколения с идеоло-гией гораздо более двойственны: конечно, оно цинично и не испытывает потребности в каких бы то ни было идеологических прин-

154 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra
Иван Крастев
ципах, но эти люди ценят идеологию как часть борьбы за власть. Путину нужна идео-логия, чтобы на ее основе сформулировать основу идентичности — народа и режима. И он винит сурковщину в массовых протестах зимы 2011/12 года. Путин считает, что рос-сиянам нужна идеология, чтобы защититься от ужасов глобализации. И союз Кремля с РПЦ в этом контексте — не просто такти-ческий ход, а своего рода политический императив. При этом то, как Путин отно-сится к религии, не сильно отличается от того, как к ней относился Сталин, который тоже использовал ее для победы в Великой Отечественной войне как главный символ российского национализма.
Путин — мастер выживания Мастер выживания — наверное, самая инте-ресная из путинских ипостасей, описанных в книге Хилл и Гэдди. По справедливому замечанию авторов, есть большая раз-ница между тем, кто выжил в катастрофе (survivor), и тем, кто подготовлен к выжива-нию в экстремальных условиях (survivalist). Один — пассивен, другой — активен; Путин — не выживший, он именно специалист по выживанию. Когда Россия кардинально менялась, он был за границей: крушение Советской империи он осознал еще в 1989-м, находясь в Восточной Германии, и оно стало для него очень личным и дра-матическим переживанием. Для Путина выживание равнозначно победе: когда про-тестующие пытались прорваться в здание «дома дружбы» СССР — ГДР в Дрездене, где служил под прикрытием подполковник КГБ Путин, он вышел к ним и сумел удержать их, притворившись переводчиком, то есть мелким чиновником, не несущим никакой ответственности. Эта уловка позволила ему выжить, иными словами, он вышел побе-дителем. Именно навыки выживания опре-деляют склонность Путина мыслить в кате-
гориях наихудшего сценария. Готовность к нештатным ситуациям лежит в основе путин-ского мировоззрения и составляет суть его концепции управления Россией. Именно эта черта роднит его с экономическими либера-лами типа Алексея Кудрина. Однако то, что, с точки зрения Кудрина, является разумной экономической политикой, для Путина выполняет задачу разумной стратегии национальной безопасности. Путин велел создать резервные фонды, чтобы защитить российский суверенитет. И последствия кри-зиса 2008—2010 годов убедили его в правиль-ности принятого решения. Задача выжива-ния является для Путина центральной, и это объясняет еще один ключевой элемент его политики, а именно навязчивую идею, что никто не должен заподозрить его в слабо-сти. Путин — мастер выживания построил всю современную российскую политику на принципе “мы не должны допустить, чтобы нас считали слабаками”. Ради того, чтобы доказать, что он не слабак и что его нужно воспринимать всерьез, он оказался готов даже вторгнуться на территорию соседнего государства.
Путин — «лидер-одиночка»Еще одна политическая идентичность Путина, которую выделяют Хилл и Гэдди, — нежелание «быть со всеми». Он оставался «посторонним» в университете, в КГБ, в Дрездене и даже в Кремле, но важно понимать, что это одиноче-ство всегда было его сознательным выбором. Тому, кто остается в стороне, всегда легче понять, что на самом деле происходит внутри; но этим определяется и главный недостаток «посторонности» — неспособность быть «своим». «Одиночка» ни с кем и ни с чем себя не идентифицирует, его лояльность — скорее стратегия, чем веление души. Проведя более десяти лет у власти, Путин, как мне кажется, остается «посторонним» даже по отноше-нию к собственному политическому режиму.

Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 155
Рецензии
В управлении страной он по-прежнему опи-рается на людей, с которыми познакомился еще до прихода в Кремль. Он упорно остается чужим по отношению к собственной полити-ческой системе, и в этом он чем-то похож на российских императоров.
Путин — сторонник свободного рынкаСторонник свободного рынка — еще одна важная сторона личности Путина. Это не значит, что он хотел бы осуществить рыночные реформы: Путин действительно не верит в огосударствленную экономику, но, несмотря на то, что он ценит динамизм рынка, его приверженность рыночной экономике довольно своеобразна. Дело в том, что Путин сам хотел бы быть той «невидимой рукой» (а может быть, не такой уж и невидимой), которая всем управляет. С точки зрения авторов книги, тяжелый опыт Путина, связанный с решением про-блемы продовольственного кризиса в Ленинграде в начале 1990-х, был ключевым для формирования его взглядов на эконо-мику. В отличие от коммунистов, которые до сих пор мечтают о том, чтобы ренаци-онализировать экономику, Путин хочет ренационализировать только «капитанов» экономики, представителей элиты. Его война против «ЮКОСа», внедрение в част-ные компании силовиков, которые вроде бы мыслили как государственники, но при этом активно использовали свое положение для личного обогащения, — все это было отча-янной попыткой контролировать рынок так, как обычно контролируют агентуру. Для Путина доверие подразумевает возможность контролировать. Он не может доверять тем, кто держит активы в обналиченной форме, а семью — за пределами России. Путин пред-лагает им защиту в обмен на уязвимость по отношению лично к нему. Он воспринимает олигархов не как собственников, а как управ-ляющих государственными активами. Для
того чтобы они эффективно управляли этой собственностью, они должны чувствовать, что она им принадлежит, но для выживания режима им надо постоянно напоминать, что они просто менеджеры.
Путин — сотрудник госбезопасностиБольшинство приверженцев теорий заговора видят в трех буквах — КГБ — простое объяс-нение того, как Путин сумел достичь вершин государственной власти. Но что на самом деле значит для Путина эта организация? Фионе Хилл и Клиффорду Гэдди отлично удалось ответить на этот вопрос. Они объясняют, что Путин не привел к власти КГБ, он про-сто привел во власть своих друзей, многие из которых, что неудивительно, раньше работа-ли в «Конторе». Опыт работы в органах госбе-зопасности важен для понимания путинской политики прежде всего потому, что он научил его неформальным подходам. Путина специ-ально готовили к тому, чтобы видеть за всем конкретных людей, а не институты. В КГБ его учили, как работать не в самих учреждени-ях, а «вокруг них». Именно благодаря этому искусству неформального подхода Путин сумел достичь успеха в трудный период 1990-х годов, но одновременно упор на неформаль-ные связи и практики стал препятствием в деле выстраивания институтов.
Акцент на прошлом Путина и накоплен-ном им жизненном опыте дает авторам воз-можность разобраться и в том, почему Путин пользуется общественной поддержкой, и в причинах его главной неудачи. Путину не удалось восстановить российское государство и не удалось выстроить стабильный полити-ческий режим. Его усилия по государствен-ному строительству были сосредоточены не на упрочении государственной мощи, а на сокрытии государственной немощи. Конечно, сегодня российское государство сильнее и богаче, чем государство 1990-х, но эффективности в нем не прибавилось.

156 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra
Иван Крастев
Шесть ключевых путинских ипостасей не помогли ему построить государство — он сумел лишь создать его видимость. Путин-государственник не смог сделать Россию более управляемой. Путин — пленник истории не смог предложить народу объ-единяющую национальную идею. Путин-«посторонний» не смог сделать так, чтобы хоть один из начатых им проектов ассоци-ировался бы с ним лично, и самый лучший пример тут — «Единая Россия». Путин — мастер выживания был настолько зациклен на том, как преодолеть наихудший сценарий, что упустил возможность для развития и реформ. Путин — сторонник свободного рынка наводнил Россию госкомпаниями, чьи владельцы научились быть лояльными, но не научились быть конкурентоспособными на мировом уровне. А Путин — сотрудник спецслужб продемонстрировал уникальное мастерство в деле подрыва институтов, но не научился уважать их автономию.
Седьмая ипостась: Путин-царьВ книге Хилл и Гэдди, как мне кажется, не хватает одной ключевой ипостаси, проявив-шейся в относительно недавнее время: Путин-царь. Слезы на глазах Путина сразу после его последнего переизбрания — вернейшее свиде-тельство того, что он именно царь. Но царь, уже ощутивший закат своего могущества, — только цари чувствуют себя вправе обидеться на неблагодарных подданных. Седьмая иден-тичность Путина сформировалась уже после
того, как он оказался в Кремле, но она стано-вится все более важной. В последние десять лет Путин столкнулся с выбором, который неизменно возникает в любом персоналист-ском режиме: укреплять личную власть или укреплять режим, чтобы он мог сохранять устойчивость и после твоего ухода. В 2008-м, когда, вопреки всеобщим ожиданиям, Путин решил не идти на третий президентский срок, показалось, что он сделал выбор в пользу укре-пления режима, но четыре года спустя судьба России вновь переменилась. 24 сентября 2011 года, когда Путин объявил о том, что возвра-щается в Кремль, он тем самым изменил суще-ствующий политический порядок: это, конеч-но, была не та перемена, на которую надеялся Запад, но тем не менее речь идет о существен-ном сломе. Путин сохранил власть, но ценой разрушения того режима, который он сам строил на протяжении предыдущих лет.
В путинской биографии есть много удиви-тельного, но и много грустного. Она траги-ческим образом напоминает анекдот 1980-х про человека, который всю жизнь работал на заводе, где, как считалось, производились лучшие самовары в СССР. Год за годом он выносил с завода отдельные детали, надеясь, что сможет собрать у себя дома отличный самовар. Но как бы он ни соединял детали друг с другом, всякий раз получался вовсе не самовар, а автомат Калашникова.
Чем не краткий пересказ путинской исто-рии?
ИВАН КРАСТЕВ

Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 157
Рецензии
Книга «Колесо Фортуны: Битва за нефть и власть в России» профессора Тейна Густафсона, очевидно, станет одним из
ведущих академических источников по исто-рии российской нефтяной отрасли за послед-ние 25 лет. Автор задается двумя обширны-ми вопросами: как советская «нефтянка» пережила трансформацию постсоветского периода (в каком положении она находится сейчас) и как не допустить ее обвала в бли-жайшее десятилетие. Из объемной (более 600 страниц) книги, разбитой на главы по ключевым темам из каждого десятилетия, которые не всегда следуют друг за другом в хронологическом порядке, мы узнаём о том, как партийная и отраслевая бюрократиче-ская номенклатура вместе с более молодым «деловым» поколением, по сути, возродили нефтяную отрасль (появились три крупных и шесть средних частных компаний в дополне-ние к уже существовавшей государственной «Роснефти»). Дело в том, что добыча нефти начиная с 1988 года (когда пик составил около 600 млн тонн) стремительно падала и к середине девяностых сократилась почти вдвое. В начале же 2000-х она достигла уровня свыше 400 млн тонн, а затем, к 2010 году, под-нялась практически на прежний уровень — выше 500 млн тонн (в книге эту динамику хорошо иллюстрирует график на с. 187).
Однако, по мнению Густафсона, одним из ключевых моментов для всей истории отрас-ли стал 2002 год, когда частные компании, в первое десятилетие своей деятельности неподконтрольные государству, столкнулись с проснувшимся госаппаратом и всей его репрессивной машиной. Рассматривая поли-тико-административные истоки путинской команды в Петербурге до 2002-го, развал
«ЮКОСа» и параллельное возрождение «Роснефти» в 2003—2005-м, развитие нало-гового, лицензионного и другого базового нефтяного законодательства после ареста Ходорковского и анализируя роль иностран-цев в ТНК-BP, в трех ведущих проектах по соглашению о разделе продукции (СРП) и в сервисных компаниях, автор приближается к финансовому кризису 2008—2010 годов. В результате кризиса стала очевидна фунда-ментальная проблема нефтяной отрасли стра-ны, существовавшая еще со времен Михаила Горбачёва: более 60 проц. добычи даже в сегодняшней России производится из старых месторождений (браунфилдов), открытых и частично разработанных до 1988 года.
Центральную тему всей книги можно сформулировать словами Алексея Кудрина, которые он произнес после своей отстав-ки с поста министра финансов в 2011-м: «Нефтяная отрасль из локомотива экономи-ки превратилась в ее тормоз» (с. 5). Автор не раз повторяет мысль, что нефть, как и другое стратегическое сырье в развивающей-ся стране, не является априори источником проблем и не предрасполагает к «ресурсному проклятью». Более того, Россия, по мнению автора, как Норвегия или Бразилия, теорети-чески имеет все шансы использовать нефтя-ные ресурсы в качестве своего основного конкурентного преимущества в мировой экономике и может стать при этом высоко-технологичным, устойчивым государством. Однако все устройство отрасли на сегодняш-ний день — от бюрократических наслоений конфликтующих ведомств, скопившихся в центральном правительстве и в регионах за три десятилетия, до конкурирующих государ-ственных и частных компаний и кланов вну-
Thane Gustafson. Wheel of Fortune: The Battle for Oil and Power in Russia. Belknap Press, 2012.
672 p.

158 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra
Илья ЗаславскИй
три путинской вертикали, расплодившихся за последние несколько лет, — неминуемо ста-вит Россию в чрезвычайно уязвимое положе-ние на мировом рынке нефти, где в ближай-шие десять лет неизбежны резкие колебания цен и возможен их обвал.
Каким образом российская «нефтянка» оказалась столь уязвимой? Густафсон отме-чает, что Советский Союз на своем излете вовсе не был классическим «нефтесырьевым государством» (“petro-state”). Даже в 1980-е, на пике экспорта нефти, эта статья прибыли в доле доходов государства составляла меньше трети, а сама отрасль была создана с нуля рос-сийскими инженерами при использовании национального оборудования. (В отличие от Саудовской Аравии, Ирана или Ирака, где нефтяная отрасль расцвела благодаря ино-странцам, а затем была национализирована.)
Однако подобная независимость сослу-жила по-своему плохую службу для развития индустрии после развала СССР. Высокомерие и самодостаточность постсоветских чинов-ников и специалистов, уверенных в том, что прибегать к услугам иностранцев следует крайне редко и выборочно, наложились на моральный и ценностный вакуум, совпав-ший к тому же с резким выходом на мировой рынок (в том, что касается прямой торговли нефтью на ведущих площадках), который открыл путь к быстрому обогащению про-изводственных компаний, подвластных вче-рашним бюрократам и технократам, таким как Вагит Алекперов и Владимир Богданов. Ключевым же фактором стало то, что акти-вы, доставшиеся первым частникам путем приватизации и залоговых аукционов, были уже развиты. Для возобновления их работы не требовалось значительных инвестиций и технических инноваций мирового уровня, достаточно было минимальных вложений, дабы перезапустить уже проверенный в советское время механизм поддержания добычи на месторождениях. Таким образом,
в течение следующих десяти лет враждующие олигархическо-бюрократические группы непрестанно занимались «дележкой» работа-ющих активов, оставляя в стороне их полно-ценное развитие и восполнение новыми раз-веданными запасами.
***Новая книга Густафсона написана для
широкого круга читателей и, как и «Добыча» Дэниела Ергина 1, ориентирована прежде всего на западную академическую среду, сту-дентов и преподавателей. С этой точки зре-ния для специалистов российской нефтяной отрасли многие факты, изложенные в книге, и их анализ не представляют собой ничего нового, скорее, они могут служить полезным хронологическим и тематическим справоч-ником. К такого рода фактам относится исто-рия создания «ЮКОСа» и других частных компаний, первые СРП на Сахалине и на Харьяге, а также биография основных дей-ствующих лиц тех лет, включая Владимира Путина и Игоря Сечина до их переезда в Москву. Тем не менее вполне вероятно, что многие российские нефтяники откроют для себя ранее неизвестные детали, например, какие связи и просто удачное стечение обсто-ятельств помогли удержаться на плаву имен-но Алекперову и Богданову, а не другим двум десяткам «красных директоров».
Что касается биографической составляю-щей книги, то наиболее ярким представляет-ся анализ личности Михаила Ходорковского и его влияния на процесс возвращения сильного государства в отрасль. Густафсон подробно описывает, как происходило вос-хождение Ходорковского, как началось его противоборство с властью, каковы причины изоляции олигарха и в конечном итоге его поражения. Особенно интересен взгляд автора на то, почему разгром «ЮКОСа» при-шелся именно на 2003—2004 годы и почему это случилось именно с Ходорковским. В убедительной последовательности автор

Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 159
Рецензии
перечисляет все те многочисленные при-чины (по степени их влияния), которые при-вели к конфликту Ходорковского с государ-ством и некоторыми ведущими олигархами. Ходорковский раздражает правительство тем, что занимается антиналоговым лобби-рованием в Думе, высказывает недовольство уровнем подготовки кадров в профильных госорганах, поучает Путина в вопросах стро-ительства частного трубопровода в Китай, говорит о коррупции в «поднимающейся с колен» «Роснефти», вызывает ревность со стороны ФСБ и нефтяных компаний тем, что ведет переговоры о продаже части акций «ЮКОСа» и «Сибнефти» западным гигантам Exxon и Chevron, открыто бравирует колоссальным состояниям и влиянием во властных структурах. При всей симпатии автора к несомненным управленческим талантам Ходорковского и сочувствии к его дальнейшей печальной судьбе в российских судах, Густафсон хладнокровно перечисляет и не совсем лестные факты его биографии в те поворотные годы. В частности, по мне-нию автора, открытость «ЮКОСа» после 2002 года и агрессивное продвижение идеи прозрачности компании в первую очередь объясняется тем, что Ходорковский осознал, насколько более прибыльным и политически весомым может стать не растущая добыча, а увеличение цены акций компании на миро-вых биржах, а также партнерство с глобаль-ными энергетическими компаниями.
Описывая атаку на «ЮКОС» и ее послед-ствия, автор, на мой взгляд, слишком серьез-но воспринимает реальность существования обособленных и четко оформленных лагерей «либералов» и «силовиков» в окружении Путина, а также их дальнейшую независимую роль в развитии отрасли после судебных про-цессов над компанией. Во-первых, наличие таких лагерей подразумевает возможность принятия ими независимых от Путина реше-ний как относительно разгрома компании,
так и относительно последующих правил игры. Тем не менее факты, изложенные в книге, свидетельствуют о том, что ни один ключевой вопрос не мог решиться без согла-сия президента (начиная с арестов и разгро-ма компании в центре и в регионах и закан-чивая произошедшим затем распределением активов между «Роснефтью», «Газпромом» и другими игроками). Во-вторых, этот тезис предполагает четко сформулированную идеологию, стратегические взгляды по само-му широкому кругу вопросов деятельности правительства, а также готовность активно бороться за свое видение. Ничего подобного не было и нет. Скорее можно вести речь о том, что в окружении Путина выделялись две крупные группы: бывшие и действующие сотрудники силовых ведомств, особенно КГБ, и непартийные технократы.
Еще точнее было бы говорить об «особо приближенных» инсайдерах (в частности, из кооператива «Озеро») самого разного про-исхождения, но прежде всего из советских спецслужб, и обо всех остальных высоко-поставленных и лояльных, но не слишком обогащающихся лично исполнителях (вроде Сечина и Кудрина). Каждый из последних выполнял в те годы четко установленные для него функции в меру своих способно-стей и предрасположенностей, с тем чтобы обслуживать политические и экономические интересы президента и его ближайшего окру-жения.
Невольно опровергая собственный тезис о двух лагерях, Густафсон отмечает, что и «либералы», и «силовики» в 2002—2004 годах объединились вокруг идеи, что надо непре-менно повышать налоги на нефтяную отрасль на фоне быстро растущих мировых цен на энергоносители и резко увеличить контроль со стороны государства по сравнению с пре-дыдущим десятилетием. В дальнейшем, когда шел разгром «ЮКОСа», методы, с помощью которых уничтожалась компания, вызывали

160 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra
Илья ЗаславскИй
отторжение у разных технократов от Кудрина и Дворковича до Касьянова и Волошина, хотя и по разным причинам, не обязательно связанным с общим «либеральным» миро-воззрением. Это, на мой взгляд, лишний раз свидетельствует о том, что на тот момент Путин самостоятельно принял решение пока-зательно «выпороть» строптивого олигарха, для чего воспользовался услугами тех, кто рас-полагал силовыми возможностями 2.
Значительно более убедительным пред-ставляется тезис Густафсона, что сами оли-гархи с одобрением приняли неправовое государство середины 2000-х, в котором уже царил не дикий капитализм 1990-х, а важней-шую роль стали играть коррупция и связи между представителями силовых органов. Автор обращает внимание на то, что в обмен на лояльность и контроль новое силовое государство гарантировало представителям высшей лиги РСПП итоги приватизации (которую на тот момент осуждали уже самые широкие слои общества) и стабильную при-быль от более-менее исправно работающих браунфилдов.
Финансовый кризис 2008—2010 годов уско-рил взаимное сближение лояльных олигар-хов и путинского государственного аппарата. В обмен на государственные кредитные вли-вания и прочие послабления руководители оставшихся частных нефтяных компаний согласились со всеми элементами «ручного» управления отрасли: от лицензионных кон-курсов «для своих» до административного регулирования сезонных цен на нефтепро-дукты. В эти же годы обнажились основные проблемы «нефтянки», которые не были очевидны в период экономического роста: началось безвозвратное падение добычи браунфилдов в Западной Сибири, притом что на разведку новых запасов и разработку новых месторождений (гринфилдов) за двад-цать лет были выделены в целом мизерные суммы в сравнении с мировыми масштабами.
Во многом это объяснялось жесточайшей налоговой политикой по изъятию нефтяной ренты, которой правительство стало придер-живаться к середине 2000-х.
Кроме того, столь фатальная зависимость нефтедобычи от советских браунфилдов в немалой степени связана также с острым нежеланием российских ведомств и компа-ний привлекать в качестве полноценных партнеров или на правах СРП ведущие ино-странные компании, которые способны найти и разработать существенные новые ресурсы. Две отдельные главы в книге расска-зывают о том, что помимо трех СРП, кото-рые были заключены в ельцинское время, а при Путине пережили перераспределение части акций в пользу российских компаний, за последние 25 лет в России успешными были лишь две иностранные компании — это BP и Schlumberger. Первая смогла получить партнерство с российской ТНК лишь после бурной корпоративной войны в России и в мире (закончившейся вничью в конце 1990-х) и только на условиях равных долей владения общей компанией, что, как выяснилось в 2008 году во время нового витка конфликта, не способно гарантировать соблюдения прав иностранцев на территории России. Вторая компания представляет собой крупную сер-висную компанию, которая выжила на рос-сийском рынке в основном благодаря адапта-ции к более консервативным и устаревшим технологическим методам добычи в России, а не путем привнесения передового мирового опыта, как планировала изначально. В итоге российская нефтяная отрасль, эксплуатируя работающие месторождения еще советских времен в условиях отсутствия в стране объ-ективной судебной системы и политической неприязни к иностранному участию, так и осталась изолированной от современных тех-нологий добычи и менеджмента, несмотря на многолетнюю возможность измениться к лучшему.

Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 161
Рецензии
Густафсон отмечает, что в последнем докладе Международного энергетического агентства (МЭА) жестко констатируется, что если Россия хочет оставаться серьезным игроком на мировом нефтяном рынке, то к 2035 году более трети российского производ-ства нефти должно быть на месторождениях, на сегодняшний день не только не разрабо-танных, но даже еще и не открытых.
Какие пути выхода из сложившейся непростой ситуации в российской нефтяной отрасли предлагает американский исследо-ватель? Мировой опыт подсказывает автору, что крупным российским компаниям не стоит любой ценой поддерживать уровень добычи на старых месторождениях, где про-филь производства неминуемо снижается. Нефтяникам нужно перестать гнаться за объ-емами добычи, как в советские времена, и переключиться на коммерческий аспект каж-дого месторождения. Для этого необходимо развивать другие большие месторождения, а малорентабельные браунфилды передать в управление местным и западным средним и малым компаниям, которые готовы мак-симально сосредоточить все свои усилия на одном-двух месторождениях с привлечением специальных технологий и способны тща-тельно контролировать расходы. Крупным же компаниям автор рекомендует отказаться от непрофильных активов, не бояться пере-дать на аутсорсинг внедрение передовых тех-нологий (как, например, обустройство «циф-рового» месторождения, отслеживающего комплексные параметры добычи в режиме реального времени), расширить все аспекты взаимодействия с внешним миром, прежде всего партнерство и обучение персонала, как это делают бразильские и даже китайские нефтяные компании (с. 475).
В конце книги Густафсон, как добросо-вестный представитель консалтинговой фирмы КЭРА, избегает точных долгосроч-ных прогнозов развития нефтяной отрасли
в России. Вместо этого он предлагает хоро-шо структурированные сценарии, связанные с ростом и падением мировых цен на нефть в ближайшие десять лет. Хотя многие фак-торы говорят в пользу роста цен на нефть (от геополитики на Ближнем Востоке до увеличения спроса в случае резкого подъ-ема мировой экономики), исследователь скорее склоняется к тому, что долгосрочный спрос на нефть будет падать, поскольку это сырье активно замещается другими видами топлива и все ведущие страны взяли курс на энергоэффективность за счет импортируе-мой нефти.
Для России наиболее важна ситуация падения цен на нефть. В этом случае она ста-новится пассивным ценополучателем, неспо-собным, как, скажем, Саудовская Аравия, повлиять на динамику цены. При этом возни-кают ножницы между растущей стоимостью добычи на истощающихся браунфилдах и снижающейся рентой от экспорта не только нефти, но и всех товаров, в которых та игра-ет существенную роль: сталь, удобрения и т. д.
Густафсон предлагает три возможных сценария, как Россия отреагирует на вызовы следующего десятилетия (каждый из которых связан с именем определенного политическо-го деятеля):
•высокотехнологическая модернизация Дмитрия Медведева;
•возврат к рыночной реформе Алексея Кудрина;
•продолжение статус-кво Владимира Путина.Первый сценарий автор, в сущности, и не
рассматривает всерьез, по крайней мере на ближайшую перспективу: настолько мала под-держка Медведева и неочевидна готовность хотя бы кого-нибудь, обладающего реальной властью, его осуществлять. Этот сценарий напоминает Густафсону стандартный призыв советской «пятилетки», когда вдруг пред-лагается одним резким скачком преодолеть

162 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra
Илья ЗаславскИй
все накопившиеся в отрасли проблемы, но не уточняется, какими методами.
Сценарий Кудрина, кроме макроэконо-мической стерильности, не имеет прямого отношения к «нефтянке»: только приори-тет низкой инфляции, стабильный курс валюты и укрепление прав собственности. В этом сценарии нет ни слова о реальных отраслевых реформах, таких как, например, отказ от практически тотальной монополии «Транснефти» на транзит и экспорт нефти.
Путинский сценарий заключается в том, что государство сохраняет приоритетный кон-троль за отраслью, особенно за ее доходами, а государственные компании остаются главны-ми разработчиками новых месторождений.
Густафсон пишет, что любой из сценариев или комбинация из всех трех может иметь место в России в долгосрочной переспек-тиве, хотя складывается впечатление, что наиболее реальным автору представляется третий вариант. Есть одно, в чем Густафсон уверен точно: аномально благоприятные условия первого десятилетия нового века вряд ли повторятся. За этот период благода-ря скакнувшим в четыре раза мировым ценам на нефть бюджет России увеличился в девять раз, реальная оплата труда выросла в три раза, а производство нефти — почти вдвое.
Автор считает, что в ближайшие десять лет получаемая российским правительством природная рента неизбежно уменьшится, а социальные расходы, напротив, только воз-растут; для нефтяной отрасли придется сни-зить налоги, дабы она могла больше вложить в разведку. В связи с этим сразу возникает множество проблем и вопросов, на которые ранее не обращали внимания и которые книга уже не успевает раскрыть.
Хотелось бы думать, например, что рос-сийское правительство вернется к вопросу о естественном (экономически и социально обоснованном) энергетическом балансе стра-ны: насколько он должен состоять из нефти
(и извлекаемого из нее мазута), насколько из газа, угля, древесных отходов, возобновляе-мых источников. Сейчас цены на газ в России завышены из-за монополии «Газпрома», а потенциал ветряков и вовсе практически не используется.
Одновременно встает и проблема долго-срочного планирования в энергетике. Осмысленно ли оно в нынешнем виде, когда из целого ряда министерств бесконечным потоком выходят «генсхемы» нефтяной, газовой и электроэнергетической отрасли, «экологическая стратегия», «энергетическая стратегия»-2020 и 2030? Их согласовывают годами, сражаясь за ведомственные полномо-чия, но при этом документы устаревают еще на стадии выхода. Есть множество примеров, доказывающих, что основные положения этих якобы «стратегических» документов в одночасье могут быть изменены в угоду сию-минутным интересам инсайдеров режима. Так, например, монополия «Газпрома» на экспорт сейчас отменяется ради интересов «Новатека», большим пакетом акций кото-рого владеет Геннадий Тимченко. Возможно, задача государственных ведомств состоит в том, чтобы не пытаться планировать раз-витие отраслевых показателей до 2030 года наподобие Госплана, а заняться созданием прозрачных правил, соответствующих уже принятым нормативно-правовым положе-ниям, особенно что касается таких базовых прав, как неприкосновенность частной соб-ственности.
Объективный аналитик, не подверженный влиянию СМИ, не должен принимать на веру ключевые установки в сегодняшней россий-ской «нефтянке». Почему в «Роснефти» так много говорят о необходимости быстрой разработки арктического шельфа, когда в Восточной Сибири, на суше, не так далеко от центров потребления, разведано всего около 5 проц. запасов? К тому же в России есть лишь один пример разработки шельфа

Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 163
Рецензии
на Арктике — Приразломное месторождение «Газпромнефти», которое далеко не блещет ни финансовыми, ни инфраструктурны-ми, ни экологическими достижениями. Не исключено, что эти проекты стремятся разработать для освоения крупных, скон-центрированных в одном месте бюджетов, а также для того, чтобы с помощью мегапар-тнерства поставить ведущие западные нефтя-ные компании в политическую зависимость от нынешнего российского режима.
Быть может, аналитики сумеют доказать, что разработка малых и старых месторожде-
ний в Западной Сибири и в других традицион-ных центрах добычи силами средних нефтя-ных компаний из России и из-за рубежа — это более эффективный для отрасли и государ-ственного бюджета тип проекта. Остается надеяться, что сторонний беспристрастный взгляд американского профессора поможет не только западным академическим кругам разо-браться в истории нефтяной отрасли России, но и российским чиновникам и руководите-лям нефтяного сектора составить рациональ-ный план движения вперед.
ИЛЬЯ ЗАСЛАВСКИЙ
«Поистине удивительная особен-ность русской национальной мифологии о победе над
Наполеоном состоит в том, что она край-не преуменьшает русские достижения». Доминик Ливен делает это совершенно справедливое замечание в заключении своей книги о борьбе России с Наполеоном. Действительно, в России это до сих пор война 1812 года, вот и музей только что
одноименный открыли в рамках «года истории». Спаситель у нас Кутузов, ста-равшийся поменьше вмешиваться в божий промысел. И конечно, народ, «поднявший дубину», каковая дубина занимает в упомя-нутом музее почетное место в экспозиции. Хорошо хоть, не приходится выбирать между народом и Кутузовым, как выбираем мы с упорством, достойным лучшего приме-нения, между двумя спасителями — народом
ПРИМЕЧАНИЯ 1 Интересный материал об этой книге см.: Мельников К. Автора на вышку! // Коммерсантъ Власть. 2013. № 5 (11 февр.) (http://www.kommersant.ru/doc/2121570/print).
2 Тот факт, что подобного рода решения не могут быть навязаны «силовиками», очевидным образом подтверждается историей с главой «Русснефти» Михаилом Гуцериевым, имевшей место позже, в 2006—2010 годах. Так, в 2006-м, когда Гуцериев утратил расположение властей, против него и против руководства его компа-нии «Русснефть» было возбуждено больше 70
уголовных дел. В июле 2007 года, после того как «Русснефть» обвинили в неуплате нало-гов, Гуцериев покинул Россию. Месяцем позже Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Гуцериева. Три года Гуцериев прожил в Лондоне, находясь в международном розыске. В 2010-м все обвинения с Гуцериева были сняты, и он вернулся в Москву. Стоило Путину сменить гнев на милость, никакая вражда Сечина и других «силовиков» по отношению к Гуцериеву не смогла повлиять на решение вернуть ему контроль над нефтяной ком-панией.
Dominic Lieven. Russia Against Napoleon: The True Story of the Campaigns of War and Peace. N. Y.:
Viking, 2009. xvii + 617 p.

164 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra
Алексей Миллер
и Сталиным — применительно ко второй Отечественной.
Несправедливо было бы все свалить на Льва Толстого, хотя Ливен и указывает на него прямо в подзаголовке книги как на своего глав-ного оппонента. Просто концепция Толстого, после дополнительного упрощения, оказалась весьма удобной для той версии национального мифа советского покроя, которую до сих пор учат в школе. В ней есть прусские генералы, дающие глупые советы, в ней нет Александра I как значительного персонажа, а Россия войну ведет и победу одерживает в одиночку.
Теперь у нас есть книга, которая позво-ляет увидеть историю борьбы России с Наполеоном во всей ее величественной пол-ноте. Книгу эту написал британский историк, чьи предки немало отличились на русской службе, в том числе и в ходе этой войны. Без сомнения, это на сегодня лучшая книга Ливена и, рискну предположить, самая важная для него лично. Эта война и русская армия в этой войне — для Ливена и предмет многолет-него исследования, и часть семейной легенды, и даже хобби — он уже много лет коллекциони-рует фигурки солдатиков того времени.
Пожалуй, больше всего меня, как профес-сионального историка, удивляет многогран-ность Ливена. Прежде всего он блестящий военный историк. Десять лет назад, когда всех интересовало в империях их умение регулировать разнородность, полиэтнич-ность и поликонфессиональность, или так называемая «мягкая сила», Ливен жестко напомнил в своей книге «Империя: Россия и ее соперники» (в русском переводе назва-ние было переиначено — с тенденцией — как «Россия и ее враги» *), что империя — это, прежде всего, механизм генерирования и проекции жесткой, военной силы.
* Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. М.: Европа, 2007. См. рецензию Алексея Миллера на русский перевод книги в: Pro et Contra. Том 11. 2007. № 3. С. 110—114. — Прим. ред.
Боевые действия и армия показаны Ливеном от «а до я». Ход сражений описан подробно и в то же время увлекательно. Пожалуй, главная удача Ливена в этой части — то, как ему удается заставить чита-теля почувствовать фактор времени в ходе войны, его особенности и его значение в условиях, когда информация двигалась со скоростью всадника, а большая часть армии — со скоростью нагруженного амуни-цией солдата.
Но война у Ливена далеко не исчерпывает-ся рассказом о сражениях.
Мы узнаем, как солдата мобилизовали, как он ел, пил, спал, как его учили, лечили. Мы узнаем, как работали тыловые службы — от заготовки провианта до производства воору-жений. Ливен рассказывает, как старались сохранить костяк воинских частей, выводя их из боя при определенном проценте потерь, как вливали пополнение в потрепанные в боях части, что значил боевой опыт. Он показыва-ет, как солдаты того времени, в силу условий службы и ее почти пожизненного характера, сплачивались если не в семью, то в своеобраз-ную артель, с общим котлом, общей казной, общим пониманием воинской чести, и как это влияло на стойкость солдат в бою. Все это — превосходный образец уже не столько сугубо военной, сколько социальной истории. Все это позволяет Ливену объяснить тот парадокс, что русская армия, во многих отношениях тра-диционная, оказалась не менее боеспособной, чем созданная на новых основаниях «воору-женной нации» и изначально лучше вооружен-ная армия Наполеона. И это позволяет Ливену развенчать миф о том, что русские солдаты не имели в 1813 году той мотивации, что была у них в 1812-м. Верность сослуживцам, честь полка никуда не исчезли в европейском походе.
Не менее внимательно и увлекательно Ливен обсуждает стратегический аспект войны. Он рассказывает, какую колоссальную роль в успехе России в 1812 году сыграла раз-

Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 165
Рецензии
ведка, благодаря которой планы Наполеона были Александру I известны заранее. Миф о победе русского народа в форме и с ружьем или в тулупе с дубиной отодвигает в тень забвения выдающуюся роль Александра. Эта роль хоро-шо видна уже на начальном этапе войны, когда он, пришедший на трон при хорошо известных обстоятельствах и знавший, как зыбка бывает монаршая власть, выбрал вместе с Барклаем единственно верную тактику долгого отступле-ния, рискуя потерей контроля над собствен-ными элитами. В этот момент он переиграл Наполеона, заставив его вести совсем не такую войну, на которую тот рассчитывал.
Что еще остается за рамками нашего мифа о войне с Наполеоном? Например, тот основополагающий факт, что Россия была аристократической полиэтнической импе-рией и офицерский корпус ее армии был собранием людей, происходивших из самых разных уголков Европы. Наиболее нагляд-но этот факт представлен в помещенных в конце книги двух списках командного состава армии (один — на начало кампании 1812-го, другой — на начало кампании 1813 года), которые по совершенно непонятной причи-не отсутствуют в русском издании.
Но самый главный вклад Ливена в пре-одоление нашего мифа 1812 года состоит в том, что он отказывается остановиться там, где Толстой закончил свое повествование, похоронив Кутузова. Вторая половина книги посвящена событиям 1813—1814 годов, которым в рамках отечественного мифа места не нашлось. (Ну разве что за исклю-чением мифического происхождения слова «бистро».) Это как если бы историю второй Отечественной рассказывали только до
1943 года. Между тем Россия в начале XIX века сумела привести в Европу пятисотты-сячную армию, сохранить ее боеспособность в течение длительной кампании на чужой территории и при этом не восстановить про-тив себя местное население. И это в Европе, где на тот момент лишь четыре города имели численность более 500 тыс. человек.
Здесь Ливен вновь воздает должное Александру как архитектору коалиции, объединившей три великие европейские династии и сохранившей свою прочность до полного разгрома Наполеона в 1814 году, что исключило для него возможность реван-ша. (А «сто дней» после бегства с Эльбы показали, что со стороны Наполеона попыт-ка реванша была неизбежна.) В рассказе о 1813—1814 годах Ливен уже предстает бле-стящим историком дипломатии.
Конечно, замечает в заключение Ливен, русским удобнее идентифицировать себя с армией, которая под командованием Кутузова в одиночку сражалась с врагом под Бородином, а не с коалиционной армией под командованием Барклая и Карла Шварценберга, победившей при Лейпциге. Так и англичане больше всего любят вспоми-нать, как они в одиночку сражались с Гитлером в 1940-м. Но когда Александр в 1813 году повел свою измотанную армию в Центральную Европу, чтобы мобилизовать нерешительных союзников и твердой рукой привести их в Париж, он исходил из того, что только так может обеспечить безопас-ность собственной страны. Достижениями этого периода русским следует гордиться не меньше, чем подвигами 1812 года.
АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР

166 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra
Алексей МАкАркин
Автор рецензируемой книги Блэр Рубл — известный американский урбанист и политолог, директор
Института Кеннана, руководитель Проекта сравнительных урбанистических исследо-ваний при Международном центре имени Вудро Вильсона. Его книга, изданная в рус-ском переводе Московской школой поли-тических исследований и представляющая собой, в сущности, «биографию» одной вашингтонской улицы и ее окрестностей, содержит много интересного и поучительно-го и для российского читателя.
U-стрит — это район Вашингтона, где в течение многих лет проживают преимуще-ственно афроамериканцы. История этой улицы начинается со времен Гражданской войны (1861—1865), когда возник феномен многорасовой городской общины. За этим последовали годы новой сегрегации (после отмены самоуправления в Вашингтоне), но и — вместе с тем — постепенного складыва-ния «черного» среднего класса, появления афроамериканских образовательных и гуманитарных учреждений. Близ U-стрит в разное время жили знаменитый музыкант Дюк Эллингтон и основательница американ-ского Красного Креста Клара Бартон, здесь учился будущий первый чернокожий судья Верховного суда США Тёргуд Маршалл, а Ральф Банч (спустя десятилетия он станет заместителем Генерального секретаря ООН и нобелевским лауреатом) участвовал в нена-сильственных акциях протеста против сегре-гации.
Рядом с U-стрит в 1867-м был основан Университет Ховарда, одно из ведущих выс-ших учебных заведений с совместным обуче-
нием белых и черных, а тремя годами позже открылась первая публичная школа для афро-американцев. В 1930-е годы Университет Ховарда стал не только образовательным центром, но и средоточием гражданской активности. Автор, в частности, обращает внимание на то, что студенты и преподавате-ли одного из его факультетов — юридическо-го, по-новому подходя к проблеме «право и расы», закладывали правовые основания под стратегию американского движения за граж-данские права. Факультет стал подлинной «лабораторией» гражданских прав. Важно и то, что одновременно росло качество препо-давания, а требования к абитуриентам ста-новились строже. Это повышало конкурен-тоспособность выпускников факультета на рынке труда. Именно юристы, окончившие Ховард, выиграли в 1930—1950-х годах судеб-ные процессы, создавшие правовой фунда-мент для отмены сегрегации.
История U-стрит — это летопись деся-тилетий борьбы за равные права, борьбы, принципиально изменившей облик Америки. Сегодня трудно себе представить, что еще в 1930-е администрация Национального театра Вашингтона нанимала чернокожих парней, чтобы те задерживали и не пропускали на спектакли своих собратьев, пытавшихся пре-одолеть расовый контроль. А кончилось все это победой в нескольких судебных делах, которые возбуждали активисты, пытавшиеся добиться отмены дискриминационных пра-вил. Впрочем, к тому времени театр был уже одним из немногих мест в американской сто-лице, куда был закрыт доступ черным.
Понятно, что борьба — это дело рук конкретных людей. Книга Рубла напол-
Блэр Рубл. Вашингтонская U-стрит: Биография / Пер. с англ. [Blair A. Ruble. Washington’s
U Street: A Biography. Johns Hopkins Univ. Press, 2010]. М.: Московская школа политических
исследований, 2012. 424 с.

Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 167
Рецензии
нена именами, более того, в конце каж-дой из ее глав читатель найдет очерки о знаменитостях, с чьими именами связан исследуемый район. И в то же время в ней проанализированы особенности развития самой чернокожей общины города, в том числе формирование афроамериканского среднего класса, что позволило фрагменти-рованному до тех пор сообществу черных к концу XIX века осознать свою идентич-ность. «Афроамериканские коммерческие и некоммерческие организации и объедине-ния оказывали населению широкий спектр услуг, которые не предоставлял город белых: они издавали журналы, ставили спектак-ли, открывали рестораны, проектировали театры, строили отели и многоквартирные дома, торговали автомобилями, основывали отделения YMCA [Христианская ассоциация молодежи] и прочие институты, помогающие людям», — отмечает автор. Далее он пере-числяет деловые организации и финансовые учреждения, созданные представителями афроамериканской общины: Национальная лига негритянского бизнеса, Столичный сберегательный банк, Реформаторский банк, Национальная компания страхования жизни, Ассоциация индустриального строительства и сбережений.
Одной из целей борьбы афроамериканцев было требование ввести в Вашингтоне само-управление, которое было отменено в 70-е годы XIX века, в результате чего «черная» община оказалась отстранена от реального влияния на политические процессы в горо-де. Только движение за гражданские права 1960-х, питаемое как всплеском обществен-ной активности, так и развитием «черного» среднего класса, добилось для вашингтонцев права выбирать мэра. А сложившийся к тому времени этнический баланс сил в городе обе-спечил избрание мэром афроамериканца.
С точки зрения Рубла, U-стрит всегда слу-жила «контактной зоной» для разнообразных
расовых, культурных и экономических сооб-ществ, населявших Вашингтон. «Класс и раса неизменно оставались решающими фактора-ми разломов, проходящих по самому сердцу этой улицы. Район был передним краем про-странства, где сталкиваются люди настолько разные, что их общение кажется невыноси-мым», — отмечает исследователь. Кажется, диагноз поставлен, и притом крайне неуте-шительный. Но Рубл не случайно говорит о «кажущейся невыносимости». Он противопо-ставляет вспышку насилия на расовой почве в бурном 1968-м (предшествовавшую восста-новлению вашингтонского самоуправления) и совместное празднование первой победы Барака Обамы на президентских выборах «людьми всех мыслимых возрастов, облика и цвета кожи» четырьмя десятилетиями позже. На смену ярости пришла радость — и это наблюдение заставляет книгу Рубла звучать оптимистично.
Разумеется, гарантию того, что ярость — хотя бы частично — больше никогда не воз-вратится, дать никто не может. Да и вообще, состояние и ярости, и радости — это пусть и яркие, но все же аномальные вспышки исто-рии на фоне повседневности, окрашенной всеми «оттенками серого». Обратим внима-ние также на то, что ликование по случаю избрания Обамы в 2008 году, охватившее U-стрит и весь преимущественно афроаме-риканский Вашингтон, уравновешивается скорбью по тому же поводу в штатах библей-ского пояса (так называют южные штаты, в которых сильны позиции консервативных республиканцев), голосовавших за Джона Маккейна. И все же хочется понять, как ярость, накапливавшаяся в течение десяти-летий, преобразилась в радость, и это при сохранении всех общественных противо-речий, на которые так любят обращать вни-мание критики современной Америки — как стремящиеся к объективности, так и явно пристрастные.

168 Ноябрь — декабрь 2012 Pro et Contra
Алексей МАкАркин
И здесь напрашивается сравнение с совре-менной Россией. Причем сразу в двух отноше-ниях. Прежде всего, в контексте межнацио-нальных взаимодействий. В российской столи-це пока нет столь масштабных национальных проблем, хотя первые конфликты уже начина-ют проявляться: например, ни в одном районе Москвы не удается получить разрешение на строительство новой мечети из-за массовых протестов местного населения. Однако в слу-чае российской столицы речь пока не идет о появлении территорий с численным пре-обладанием меньшинств, хотя удельный вес выходцев из Центральной Азии в ряде райо-нов Москвы постепенно растет. Не случайно в последние годы националисты провели ряд своих акций в Люблино, где межнациональ-ные проблемы ощущаются особенно остро. Но пока меньшинства, которые чувствуют себя в Москве (как и в других городах Центральной России) «чужаками», зависимыми от право-охранительных органов и местных властей, время от времени сталкиваются с недоволь-ством со стороны «коренного населения», обе-спокоенного быстрым изменением националь-ного состава жителей в своем районе.
Между тем со временем ситуация может измениться: «понаехавшие», несмотря на все препятствия, не только приезжают в Москву, но и укореняются в ней. Многие становятся мелкими собственниками, пополняя ряды того самого малого бизнеса, о котором вроде бы должны денно и нощно печься совре-менные российские власти (что, впрочем, не делает его более защищенным). Сейчас общество привыкло к зависимым мигран-там-просителям, но не получит ли оно через одно-два поколения «соседей» с существенно возросшими амбициями и аппетитами, в отношениях с которыми будет действовать совсем другая повестка дня. Они будут вос-принимать Москву как свой город, в котором они родились и в котором хотят влиять на общественно-политические процессы.
В то же время сегодня ни власть, ни оппо-зиция не могут найти адекватных подходов к столь сложному и «неудобному» (с точки зрения общественного мнения) диалогу — и далеко не факт, что такие подходы удастся найти в обозримом будущем. Представляется, что для многих людей во власти национа-листы, требующие резкого ужесточения миграционной политики, выглядят более приемлемыми партнерами для взаимодей-ствия, чем демократическая оппозиция. Что же до последней, то для ее значительной части националисты ближе, чем властная либеральная бюрократия или даже умеренно либеральные общественники. На выборах в Координационный совет оппозиции, состо-явшихся осенью 2012 года, ультраправые получили квоту в 5 мест из 50. Таким образом, российский политический класс демонстри-рует куда большую степень совместимости с националистами, чем западный (что в общем-то неудивительно — в российском обществе нет влиятельного «проиммигрантского» сегмента, который бы уравновешивал анти-иммигрантские настроения).
Еще один аспект проблемы связан с дей-ствиями самих российских властей, всячески сдерживающих интеграцию в политическую систему недостаточно лояльных активистов. Американский опыт, как и любой другой опыт практической политики, нельзя считать иде-альным. США знали и расовую дискримина-цию, и маккартизм. Но важнее то, что эти явле-ния американской истории осуждены обще-ственным мнением. А потому ассоциироваться с сенатором Маккарти в современной Америке постыдно вне зависимости от принадлежности к политической партии. Важно также, что аме-риканская элита все же пришла к пониманию того, что нонконформисты могут быть востре-бованы системой, а издержки от недостаточ-ной компетентности демократически избран-ных политиков ниже, чем от авторитарного ограничения политической демократии.

Pro et Contra 2012 ноябрь – декабрь 169
Рецензии
Среди главных героев книги Рубла — Марион Шепилов Барри, один из наиболее противоречивых афроамериканских полити-ков ХХ века. Молодой радикал, он взял себе второе имя в честь недолго продержавшегося на своем посту главы советского МИДа, сей-час более памятного в России по формуле «и примкнувший к ним Шепилов» (имеется в виду его причастность к сталинистской группировке в руководстве КПСС в 1957 году). В начале 1970-х Марион Барри вошел в первый состав избранного городского совета, а с 1978-го неоднократно избирался мэром Вашингтона. Спустя почти 12 лет он был вынужден покинуть этот пост под грузом тяжких обвинений — в трех лжесвидетель-ствах, десяти случаях хранения наркотиков и одном преступном сговоре. Позднее суд при-знал его виновным только по одному обвине-нию — в хранении кокаина, что не помешало ему спустя несколько лет вернуться в кресло мэра и занимать его еще четыре года, а затем избраться в окружной совет, членом кото-рого Барри оставался на момент написания этой книги.
Разумеется, Барри — это, в каком-то смыс-ле, аномалия современной Америки (в книге есть немало примеров интеграции куда более вменяемых общественных и политических фигур). Этому харизматику, позиционирую-щему себя в качестве народного защитника, избиратели готовы были простить то, что означало бы конец карьеры для большин-ства других политиков. Правда, государство стремилось минимизировать последствия управленческой эксцентрики героя «чер-ной» общины. Так, администрация Билла Клинтона провела закон о создании кон-трольного управления, которое установило надзор за финансами округа во время послед-него срока пребывания Барри на посту мэра.
В результате это поспособствовало оздоров-лению городских финансов Вашингтона, а один из главных менеджеров контрольного управления стал преемником Барри на посту всенародно избранного мэра. Однако никому всерьез не приходило в голову лишить нон-конформистского лидера политических прав (например, путем судебного решения), даже если этого требовали интересы городского хозяйства. Понятно, что это связано не толь-ко (и, наверное, не столько) с доброй волей государства, но и с влиянием гражданского общества.
В России наблюдается принципиально иной подход: исключение из политической жизни — в условиях слабости гражданских институтов — нонконформистов, восприни-маемых как угроза стабильному существова-нию государства. Однако это не стабиль-ность, а псевдостабильность, которая посте-пенно размывается, будучи в стратегическом отношении тупиковой. Американский опыт при всей его противоречивости выглядит более сложным, но успешным в долгосроч-ной перспективе. Книга Рубла показывает, что ситуации, которые считались безнадеж-ными (а Америку «хоронили» неоднократно, и в 1960-е, и в 1970-е годы), могут быть хотя бы частично разрешены на основе обще-ственного диалога и учета мнения различных групп населения, на основе приоритета прав человека и демократических принципов. Но все это куда легче провозгласить, чем реа-лизовать на практике — особенно в условиях дефицита политической воли и избытка «охранительных» стереотипов. Значительно легче и приятнее разоблачать пороки амери-канской электоральной системы, одновре-менно подчеркивая собственную уникаль-ность.
АЛЕКСЕЙ МАКАРКИН